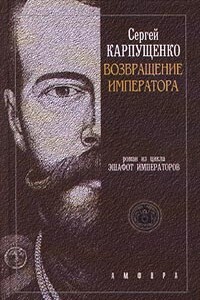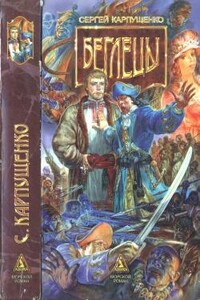- Ладно, призабыл, наверно, - опомнился Лже-Петр, боясь вызвать подозрение. - Пиши дальше. Желаю видеть мою новую армию одетой не в долгополые кафтаны, а в немецкие из немецкого же сукна, камзолы, шляпы и башмаки. Чулки ещё нужны им.
Стрешнев с сомнением покачал головой:
- Чем же наши шапки да сапоги тебе, государь, не полюбились? Али по российским грязям в башмаках ходить способней? А шляпа немецкая разве воину в стужу уши закроет?
Лже-Петр хмыкнул:
- Что с того, что не закроет уши шляпа? Какое мне дело до русской грязи? Стало быть, когда грязное время настало в весну или в осень, не нужно и полки в поход выводить. Мне же главным теперь видится то, чтоб воинство московское приобрело облик европейский, а то никакой иностранец в нем даже командиром служить не возжелает.
Стрешнев, очищая бумажкой кончик пера, сказал как бы сам себе:
- Еще при Борисе Годунове, а то и раньше, иноземцы в русских полках не гнушались службу нести, да и кафтаны наши с превеликим удовольствием надевали. Не в одеже военной дело, а в жалованьи: поманишь их большими окладами, налетят к тебе, что саранча, да ещё товарищей с собой прихватят, жен и робяток, коих потом тоже в войско царское отдадут.
Лже-Петр возмутился, лицо его от гнева покрылось пятнами, но он сдержал гнев, пробормотав:
- Ах, как ты любишь спорить, боярин. Или тебе не государь приказывает? Как велю - так и сделаешь. Обсуди с боярами, с дьяками приказов, откуда людей для новой армии приверстать, да кто на новые кафтаны, камзолы и шляпы сукна побольше продаст, да кто пошьет башмаки.
- Башмаки-то, думать надо, не шьют, а тачают... - в какой-то странной задумчивости произнес Стрешнев, чиркая между тем пером по листку гладкой голландской бумаги.
Приспособления для производства пыток у русских палачей были нехитрые, но если за дело брались мастера, поднаторевшие, изведавшие за годы такого своего ремесла самые слабые места в человеческом теле, а главное, в душе пытаемого, то и не требовалось ничего иного - кнут, дыба, раскаленное железо. Стрельцов же пытали жестоко. Лже-Петр вначале не собирался особо лютовать, но когда услышал, как чуть ли не каждый допрашиваемый называет его антихристом и немцем, увидел бесстрашие стрельцов, увидел, как на смерть они идут с улыбкой, точно в баню или на званый пир, рассвирепел.
Оказалось, что он, повелитель всей Руси, не мог даже раскаленными клещами вытащить из своих подданных того, на чем держалась власть - страха. И чем больше пытали людей, тем сильнее ожесточались они, будто уверенность в том, что не царь, а и вправду антихрист стоит перед ними, утраивала, удесятеряла их упорство и силы.
- Говори, говори, собака, кто тебя учил своего царя ненавидеть, кто бунтовать учил?! - вопил Лже-Петр, вскакивая из-за стола, за которым, удрученный свирепостью розыска, записывал расспросные речи князь Федор Ромодановский.
Вздернутый на дыбу стрелец, чье тело покрывали страшные раны, облитый из ушата холодной водой с разведенным в ней уксусом, вздрагивал, приотворял закрытые глаза, запекшимися губами шептал:
- Не царь ты, а немец...
Лже-Петр бросался к жаровне, забывая о дворянском происхождении своем, об офицерском чине, о хорошем, полученном в Морской академии образовании, хватал раскаленные клещи, рвал ими тело стрельца, осатанело крича:
- Не скажешь, не скажешь, кто тебя так учил говорить?!
И видя, как падает на грудь голова стрельца, которого спасительный обморок ненадолго избавил от мучений, огорченный возвращался к столу, тяжело опускался рядом с Ромодановским и говорил:
- Глубоко проникла в стрелецкое войско измена. Сам видишь, боярин, как они государя поносят. Ну ничего, дознаюсь, откуда зараза пошла. Оную падаль с дыбы снимите да другого изменника подвесьте. Сам ему вопросы задавать буду.
Истерзанное, закопченное огнем тело опускалось на залитый кровью пол застенка и тут же вытаскивалось прочь, чтобы новая жертва царской ярости и шведской хитрости заняла его место.
...Возле невысокого, но красивого, чистого домика в Немецкой слободе остановилась царская карета. Лже-Петр, не дожидаясь, покуда откроют дверцу, сам вылез из кареты, следом - Меншиков, который в руках держал большой, обложенный перламутром ларец. Три часа провел Лже-Петр вчера в сокровищнице, отбирая драгоценности для Анны Монс. Не потому он был столь разборчив в выборе подарков для возлюбленной царя Петра, что стремился блеском бриллиантов подчеркнуть свое величие. Лже-Петр боялся, что молодая женщина сумеет распознать в нем другого человека, кому-нибудь шепнет об открытии своем, поэтому богатые дары должны были закрыть её уста (а также и глаза). Если Евдокия, он знал, любила его как мужчину и отца ребенка, то Анна Монс, не имеющая права рассчитывать, что государь Руси станет когда-нибудь её супругом, открывала ему свои объятья небескорыстно.