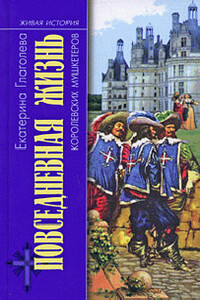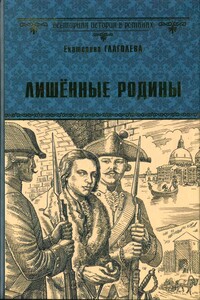Чем лучший оскорбил, тем глубже оскорбленье.
Ноябрьский переворот был воспринят общественностью как победа «добрых французов» над происпанской партией. Однако этой партии обрубили крылья, но не голову. Пускай придворные, которые раньше толпились в Люксембургском дворце, теперь заискивали в другом месте, Мария Медичи всё еще состояла в Королевском совете, и Людовик не терял надежды ее переубедить и привлечь на свою сторону. А ведь, судя по донесениям итальянских дипломатов, через королеву-мать шла утечка важных сведений; испанский двор был в курсе того, о чем говорилось на Совете в Париже, а также военных планов французского короля. Оказывалось и обратное влияние: именно через испанского посла Мадрид и Вена давили на королеву, добиваясь отставки Ришельё — источника всех бед. Вот именно: во всём виноваты испанцы! Виновные наконец-то были найдены, поскольку об очередной войне матери и сына не могло быть и речи.
«Мы знаем, что Мирабель явился сюда с недобрыми намерениями, — заявил Людовик венецианскому послу Контарини во время аудиенции. — Я предпринял всё, что мог, чтобы умилостивить королеву, мою мать, но поскольку ничего не мог от нее добиться, то заявил ей, как и всем прочим, что я намерен поддерживать кардинала против всех, ибо его несчастья и мои собственные происходят от испанцев».
Точно так же, как в апреле 1617 года, Людовик хотел доказать всем, что «он король». Но теперь в этом уже не было юношеской бравады, и весьма многие имели возможность убедиться, что он слов на ветер не бросает. Точка опоры была найдена, оставалось только оттолкнуться от нее и двигаться вперед.
Мария Медичи так и не поняла, что давно уже не властна над Людовиком, несмотря на всю сыновнюю почтительность, которую он по-прежнему ей выказывал. Когда 19 ноября мать и сын увиделись в Сен-Жермене, Мария повторила, что больше не желает видеть Ришельё; Людовик ответил, что будет стоять за кардинала «до самой смерти». Через два дня король, принимая делегацию магистратов по поводу полетты, упомянул о недавних событиях: «Вы знаете, куда завела королеву, мою мать, ее враждебность к господину кардиналу. Я уважаю и почитаю матушку, но я намерен помогать и защищать господина кардинала от всех». Узнав об этом, Мария взвилась, как ужаленная, и заявила, что эти слова были подсказаны Ришелье. Она по-прежнему не осознавала, как больно ранит сына, считая его внушаемым и несамостоятельным да еще говоря об этом публично. Для Людовика теперь было делом чести настоять на своем, но кардинал перепугался и стал оправдываться перед королевой-матерью, прося отца Сюффрена, Бюльона и ее личного секретаря Рансе уверить ее, что он здесь ни при чем. Мария отказывалась их слушать и даже прогнала Рансе со службы.
«Железный» Ришельё в этот решающий момент как будто сник и раскис. Он умолял итальянских дипломатов стать его заступниками перед королем, а когда Контарини рассказал ему о том, как прошла аудиенция 20 ноября, начал вздыхать: «К чему все эти великие дела, которые я могу совершить для короля и наших друзей; я знаю, что королева меня никогда не простит, поскольку она истолковывает всё, что я делаю, к позору и презрению. Я ее знаю: она не умеет прощать. Мне нужно следить за собой и удержаться в милости у короля». Он думал только о придворных интригах и чахнул на глазах.
В отчаянии он обратился к нунцию Баньи, которого только что произвели в кардиналы. Баньи отправился к королеве 7 декабря, и на сей раз та согласилась на переговоры, поставив, однако, условием освобождение Марильяков. В конце концов накануне Рождества в Люксембургском дворце состоялась новая встреча королевы и кардинала в присутствии Людовика. Она прошла в ледяной атмосфере и ничем не кончилась. И только в самый сочельник Баньи удалось кое-как их примирить. Король, его брат и отец Сюффрен были свидетелями. Выступая от имени короля и королевы, Баньи заявил, что прошлое забыто, королева согласна видеть кардинала в Совете, однако не желает, чтобы он занимался делами ее двора.
Изгнав из своего окружения всех родственников Ришельё, королева-мать чуть не осталась вообще без слуг. Но когда Шомберг, вернувшийся из Италии, сказал ее врачу Вотье, что самым простым решением было бы вернуть их обратно, Мария сочла это новым оскорблением и немедленно нажаловалась королю. Окончательно уверившись в «испанском заговоре», Людовик 28 декабря решил прогнать от двора госпожу дю Фаржи и маршальшу де Марильяк (в девичестве Екатерину Медичи). Место камер-фрау Анны Австрийской он отдал госпоже де Лафлот-Отрив, поэтому ее внучка Мари де Отфор стала фрейлиной королевы. Людовик теперь зачастил на половину жены, охотно беседовал с ней и дамами из ее окружения даже сверх времени, отведенного придворным этикетом на «разговоры в кругу семьи». Одновременно из свиты Анны Австрийской был изгнан десяток еще остававшихся там испанок, включая десятилетнюю девочку, дочку ее камеристки, с которой Анна отводила душу в разговорах на кастильском наречии. Испанский посол маркиз де Мирабель, прежде имевший свободный доступ в Лувр, теперь должен был испрашивать разрешение на аудиенцию, как все остальные посланники. Его протесты остались без ответа.