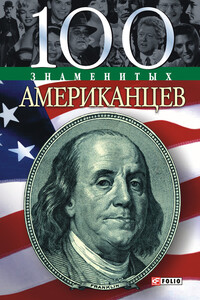Все для того, чтобы не останавливаться, не задумываться, иначе любой мало-мальски серьезный вопрос о жизни мог привести к умопомешательству:
«Но среди всей роскоши и поклонения Нана смертельно скучала. Ночью, в любую минуту, к ее услугам было вдоволь мужчин, а денег было столько, что они валялись в ящиках туалетного столика вперемешку с гребнями и четками. Но это ее уже не удовлетворяло: она чувствовала какую-то пустоту, какой-то пробел в своем существовании, вызывающий зевоту. Завтрашнего дня не существовало».
При всей своей непроницаемости для других, своей «увертливости» (Чуковский) иногда Горький решался на откровенность:
«Мне было особенно странно после его сектантских, наивных статеек о Толстом выслушивать сложные, многообразно окрашенные воспоминания о Льве Николаевиче. Как будто совсем другой Горький.
— Я был молодой человек, только что написал «Вареньку Олесову» и «Двадцать шесть и одну», пришел к нему, а он меня спрашивает такими простыми мужицкими словами…где и как (не на мешках ли) лишил невинности девушку герой рассказа «Двадцать шесть и одна». Я тогда был молод, не понимал, к чему это, рассердился, и теперь вижу: именно, именно об этом и надо было спрашивать. О женщинах Толстой говорил розановскими горячими словами — куда Розанову!
…Цветет в мире цветок красоты восхитительной, от которого все акафисты, и легенды, и все искусство, и все геройство, и все. Софью Андреевну он любил половой любовью, ревновал ее к Танееву (впрочем, не только к нему. — В.О.) и ненавидел, и она ненавидела его, эта гнусная антрепренерша. Понимал он нас всех, всех людей: только глянет, и готово — пожалуйте! Раскусит вот, как орешек мелкими хищными зубами, не угодно ли! Врать ему нельзя было — все равно все видит: «Вы меня не любите, Алексей Максимович?» — спрашивает меня. «Нет, не люблю, Лев Николаевич», — отвечаю. (Даже Поссе тогда испугался, говорит, как тебе не стыдно, но ему нельзя соврать.) С людьми он делал, что хотел. (Это так — sic! Современники его вспоминают — мальчики, некоторые из них писали стихи — начитавшись Толстого, уверовали в него. Но за идеалами «всепрощенчества» они не нашли ни-че-го. Юнцы, писатели и поэты начинающие, стрелялись… — В.О.). «— Ну да, смешной, все люди смешные, и вы смешной, Алексей Максимович, и я смешной — все». С каждым он умел обойтись по-своему. Сидят у него, например, Бальмонт, я, рабочий социал-демократ (такой-то), великий князь Николай Михайлович (портсигар с бриллиантами и монограммами), Танеев — со всеми он говорит по-другому, в стиле своего собеседника, с князем по-княжески, с рабочим демократически и т. д. Я помню в Крыму — иду я как-то к нему — на небе мелкие тучи, на море маленькие волночки, — иду, смотрю, сидит, глядит. И мне показалось, что и эти волны, и эти тучи — все это сделал он, что он надо всем этим командир, начальник, да так оно в сущности и было. Он — вы подумайте, в Индии о нем в эту минуту думают, в Нью-Йорке спорят, в Кинешме обожают, он самый знаменитый на весь мир человек, одних писем ежедневно получал пуда полтора — и вот должен умереть. Смерть ему была страшнее всего — она мучила его всю жизнь. Смерть — и женщина».
«Он постоянно стремится начать жизнь сызнова», — подчеркивает С.А. Толстая в своем дневнике.
Такой проницательный наблюдатель, как Горький, не верит в жизненную эффективность этих попыток для самого Толстого: он чувствует тщательно скрытое «нечто» Льва Николаевича, его «глубочайший» и злейший нигилизм, который вырос на почве бесконечного, ничем не устранимого отчаяния в возможности спасения от смерти.
О том же самом думал и Репин — он как бы вторит Горькому в его размышлениях.
О своем новом портрете Толстого Илья Ефимович Репин сказал: «Я делал всегда Толстого — слишком мягкого, кроткого, а он был злой, у него глаза были злые — вот я теперь хочу сделать правдивее».
Личная жизнь у Толстого была ужасной; он мучился сам и мучил других. Как выразился один из его биографов, в окрестностях графского дома не осталось ни одной крестьянской девушки, с которой бы он не был близок. Причем, как и распутник граф Альмавива, предпочитал оставлять за собой право первой ночи — успех считался полным только тогда, если удавалось заполучить в свои объятья девственницу.