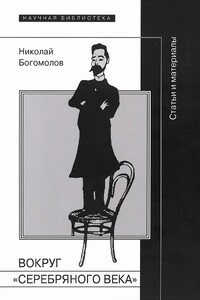Однако поэтический замысел не был сколько-нибудь адекватно прочитан критиками, писавшими о "Сетях". Им сборник представлялся прежде всего своеобразным учебником поэтического мастерства.
Произнося вполне традиционное словосочетание - "поэтическое мастерство", - надо отдавать себе отчет, что для Кузмина оно было совершенно неприемлемым. Можно представить себе, как бы он воспротивился формальным разборам своих стихотворений, анализам технического построения. Для него техника была всего лишь "послушной, сухой беглостью перстов", которая лежит в основании всякого творчества, но сама по себе не заслуживает никакого особого внимания.
Однако сегодняшнему читателю, видимо, все же следует сказать о том, что Кузмин внес в русскую поэзию и почему уже первая книга сделала его заметной звездой на поэтическом небосклоне, не затерявшейся среди других блистательных имен. С далекого расстояния мы смотрим на это время и замечаем, что некоторые поэты, считавшиеся тогда корифеями, отодвигаются в небытие, а звезда Кузмина и сегодня продолжает гореть ровным сиянием, не затмеваемая другими.
Что читатель нашего времени прежде всего чувствует, открывая сборник стихов Кузмина? Ответ может показаться банальным и уже многократно произнесенным, но от повторения истина, как известно, не исчезает и не искажается: поэзию Кузмина узнаешь в первую очередь по интонации, по неповторимому голосоведению, когда звучание воспринимаешь как голос близко знакомого человека, который невозможно спутать ни с чем даже спустя годы и годы.
При этом в ней нет никаких особых риторических приемов, нет крика, нет интимного шепотка, нет надоедливой "музыкальности". Голос поэта спокоен, чист и ясен, но за этим спокойствием скрыта масса изгибов, в которых и таится несхожесть.
Быть может, лучше всего это почувствовала в авторском чтении Марина Цветаева, поэт совсем иной интонационной природы, чем Кузмин. Но она понимала исключительное значение этой стороны стиха и потому в блестящих воспоминаниях "Нездешний вечер" смогла описать чтение, услышанное единственный раз в жизни, но запомнившееся на двадцати лет:
"И вольно я вздыхаю вновь.
Я - _детски_! - верю в совершенство.
Быть может... это не любовь...
Но так...
(непомерная пауза и - mit Nachdruck - всего существа!)
- _похоже_
(почти без голоса)
...на блаженство...
Незабвенное на _похоже_ и _так_ ударение, это было именно так похоже... на блаженство! Так только дети говорят: _так_ хочется! Так от всей души - и груди. Так нестерпимо-безоружно и обнаженно и даже кровоточаще среди всех одетых и бронированных" {41}.
Такая "пластичность" голоса тем и хороша, что позволяет каждому видеть в поэзии Кузмина свое, индивидуальное. Каждому из читающих он оказывается особенно дорог какой-то стороной, которая другому, возможно, представляется излишней. Кому-то могут стать близки интонации чуть жеманные и стилизованные:
Кто был стройней в фигурах менуэта?
Кто лучше знал цветных шелков подбор?
Чей был безукоризненней пробор?
Увы, навеки скрылося все это...
Для кого-то Кузмин - это в первую очередь восторженное:
Воскресший дух - неумертвим,
Соблазн напрасен.
Мой вождь прекрасен, как серафим,
И путь мой - ясен.
Кому-то ближе Кузмин интимный и почти домашний:
Я посижу немного у Сережи,
Потом с сестрой, в столовой, у себя
С минутой каждой Вы мне все дороже,
Забыв меня, презревши, не любя.
И такое перебирание интонаций можно продолжать сколь УГОДНО долго, ибо их разнообразие - почти бесконечно. Когда исследователи говорят о влиянии, скажем, Маяковского на некоторые стихи Кузмина, то они в первую очередь имеют в виду это плохо определимое словами, но безошибочно чувствуемое интонационное своеобразие, когда у младшего поэта заимствуется не лексика, не сюжеты, не рифмы, не образы, а, пользуясь словом Маяковского, "дикция".
Это строение кузминских стихов с безусловным господством свободы голоса, подчиняющей себе другие элементы стиха, заставляет внести коррективы в мнение современников о Кузмине.
Для читателя стихов начала двадцатого века было привычным свободное владение самыми различными твердыми формами, разнообразными экспериментальными размерами, смелые опыты в метрике, ритмике, рифмовке и пр. - все то, что внесли в литературу Брюсов, Бальмонт, Сологуб, Зинаида Гиппиус, Вяч. Иванов и другие поэты-символисты. Кузмин мог бы продемонстрировать такое владение с не меньшим, а то и большим основанием, чем любой из названных авторов. Но если у всех его предшественников экспериментаторство предстает особым щегольством - "смотрите, как я умею!", - то для Кузмина оно так же естественно, как и стихотворение, написанное четверостишиями четырехстопного ямба с перекрестной рифмовкой. Если верлибр, о котором мы уже упоминали, у Блока или Брюсова воспринимается как осознанная система минус-приемов, то у Кузмина он включается в интонационное пространство традиционного стиха и потому звучит как совершенно естественная форма, ничем особым не выделяющаяся на фоне иных размеров.