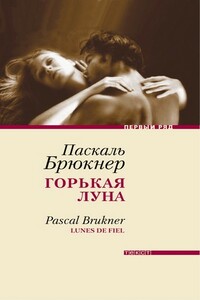– Не держи зла на ненавидящих нас. Это расплата за наше рвение. Станем собирать их плевки, как лепестки роз…
В наши отношения вдруг вернулось былое напряжение. Для нее законы гостеприимства не знали исключения. Любой возжелавший Дору мужчина, даже последняя развалина, кружил ей голову. Наихудшим отбросам общества она отдавалась с горячностью, граничившей с самопожертвованием. Ее тело было всего лишь инструментом Господа, она предлагала его в кредит, даже задаром. Она превращалась в заложницу всех своих преследователей, даже самых жалких, ценных именно своей бедой. Теперь она ходила по больницам, навещала больных на последнем издыхании, зажившихся старцев, чтобы одаривать их предсмертным возбуждением. Ее потрясали эти изможденные, изголодавшиеся существа, она по-своему творила над ними обряд соборования. Я представлял этих несчастных – агонизирующих, уносящих на тот свет последнее впечатление – нагую молодую женщину, предвкушение рая, ласкающую себя между аппаратом искусственного дыхания и капельницей. Это явно затмевало утешительное пустословие болтуна в сутане. Ее прогоняли, грозили вызвать полицию, и тогда она бралась за медицинских сестер и врачей. Я ждал ее снаружи, в кафе, сходя с ума от тревоги, как бы ее не отдубасили. Обычно она выходила сухой из воды. Но соскальзывая все ниже по роковой спирали, моя неразумная пророчица все больше рисковала. Однажды зимним вечером на перроне станции метро «Криме», где ночевали бездомные, ее чуть не задушил здоровенный бродяга, смрадный язвенник. Дора вздумала проповедовать бомжам коллективную любовь, раздвигая у них перед носом ноги, чтобы получше раззадорить. Спасением она была обязана внезапному появлению двух контролеров, помешавших им сбросить ее на пути. С улыбкой помешанной она принимала тронутых и смердящих, достигала вершин жертвенности, не различая уже блаженства и боли. После этих марафонов совокупления она могла неделю проспать, а потом, помолодевшая, снова взваливала на себя свой филантропический груз и позволяла любому раздирать ее на части. Ей грозила гибель, так сильно было ее стремление к самопожертвованию. Не будь я таким трусом, я пробудил бы ее от гипноза. Она не слушала меня, ставила меня на место улыбкой. Ее безумие неизменно превращалось в пир разума, уродство в красоту, плевок в ласку. Но после плевка она уже не могла восстать к поэзии, механизм был сломан. Какой бы высокомерный вид она на себя ни напускала, обман был уже невозможен: она превращалась в нимфоманку, больную словесным недержанием, в шлюху-тараторку. Не стану описывать двусмысленные ситуации, в которые ставила меня Дора, мерзкие положения, из которых мы вырывались с риском для здоровья и даже для жизни. Она снюхалась с совершенно опустившимися типами, с деклассированными буржуа, изголодавшимися альфонсами, торгующими своим телом наркоманами, алчными жуликами. Нас подмяло наше ремесло, мы превратились в сексуальных пролетариев.
Рано или поздно наступает момент, когда события пускаются вскачь, теснятся, приближают завершение, превращающееся в катастрофу. Пленники своей мании, мы перестали понимать обыкновенный мир. Дора снова стала вызывать у меня отвращение, но уже смешанное с грустью, оставлявшее нетронутым мою любовь к ней: она опять стала походить на потерявшуюся девчонку с опавшими плечами, оглоушенную собственной пустотой. Ее тело распадалось, бедра покрылись сетью вен, словно по ним прошлись плугом. Она отклячивала зад, как гусыня, и ничем уже не отличалась от стандарта своей профессии, выглядя воинствующей шлюхой самого дурного вкуса: слишком узкие джинсы, больше подходящие для морящей себя голодом девчонки, экстравагантные декольте, огромный размалеванный рот, влажные глаза под тонной туши. Мне хотелось как следует ее тряхнуть, запихнуть под душ, отмыть добела. Я говорил ей:
– Некоторых слишком чистых девушек хочется измарать, а таких грязнуль, как ты, так и подмывает затолкать в стиральную машину.
Она орала в ответ:
– Я для тебя еще слишком хороша, ты на себя-то в зеркало давно смотрел?
Она была совершенно измождена, и это старило ее: яркий свет был к ней слишком жесток, делал улыбку деревянной, ее дыхание пахло горечью. Скороговорка сменялась унылым молчанием, хохот до упаду – рыданиями. Она читала теперь жития святых, завидовала проливаемым некоторыми слезам, превращающимся в кровь, так называемым «розам из глаз», утверждала, что Бог преднамеренно испытывает ее. Иногда, когда уныние становилось невыносимым, она устраивала себе передышку, сдавалась, рассказывала про слюнявых дебилов, про пьянчуг со зловонной отрыжкой, про тоскливые, как зимние сумерки, эрекции, про огромные, вечно возбужденные травмирующие члены. Не забывая про мерзавцев, мужланов, психов, которых к ней влекло как магнитом. Я выходил из себя, советовал все это бросить, она в ответ цитировала христианского мистика: