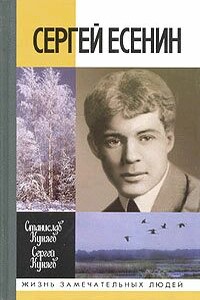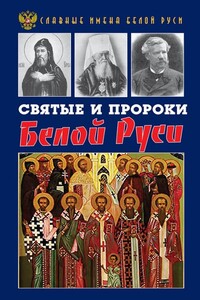Но стоял, как на коленях, клевер,
Влажный ветер пел в жемчужный рог —
Так мой старый друг, мой верный Север
Утешал меня, как только мог…
А навестивший Ахматову вскоре после войны сэр Исайя Берлин вспоминал о том, что Ахматова рассказывала ему, будто бы Сталин, узнавший о её встрече с ним, с «английским шпионом», впал в такую ярость, что это, по её мнению, могло стать одной из причин начала холодной войны.
Правда, Исайя Берлин оговорился, что был не согласен с Ахматовой, но как воспитанный человек и «сэр» не стал возражать ей[4].
А разве не о предельной ахматовской гордыне свидетельствует воспоминание Эммы Герштейн:
«Я пожертвовала для него мировой славой!» — выкрикнула она в пароксизме отчаяния и обиды на нескончаемые попрёки вернувшегося через семь лет (!) сына».
Дети Серебряного века вообще думали, что в центре мирозданья, являясь его осью, стоит поэзия, а поскольку каждый из них считал себя (иногда не без оснований) поэтом всемирного масштаба, то впасть в иллюзию гордыни им ничего не стоило. Этой «высокой болезнью» болели все — от Блока до Северянина, от Бальмонта до Ходасевича. О женщинах и говорить нечего. А Борис Пастернак, уравнявший в середине 30-х годов «двухголосную фугу», две равновеликих силы истории — поэтическую и политическую (то есть себя и Сталина), в известном стихотворенье «Гамлет» сравнил своё противостояние миру на сцене с голгофской жертвой Спасителя:
На меня направлен сумрак ночи,
Тысячи биноклей на оси.
Если только можешь, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси…
В стихотворенье же «Нобелевская премия», впадая в отчаяние от поношений, которыми его преследовала советская пресса, он восклицал:
Что же сделал я за пакость,
Я, убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.
Такова была его собственная оценка «Доктора Живаго»: именно «весь мир заставил», именно «плакать» — ни больше, ни меньше…
Всё величие мировой истории таланты Серебряного века сводили к величию и судьбам избранных. У Ахматовой в стихотворенье об Александре Македонском (1961) великий завоеватель, штурмовавший Фивы, приказывает своим полевым командирам предать в городе огню и мечу:
И башни, и врата, и храмы — чудо света,
Но вдруг задумался и, просветлев, сказал:
«Ты только присмотри, чтоб цел был Дом Поэта»…
А остальное — гори оно гаром…
Будем справедливы: у Ахматовой есть несколько стихотворений гражданско-патриотического звучания о детях войны и победы, о послевоенном мире, о своей песне, которая «голубкой мира» летит «в удушливый фабричный дым, / И в негритянские кварталы, / и к водам Ганга голубым», но их «случайность» в контексте всего творчества очевидна, а их художественная ценность сопоставима с художественной ценностью «сталинского цикла», написанного в 1949–1950 годах к 70-летию вождя. Все эти стихи (за исключением «Реквиема») были в той или иной мере декларативными эпизодами в её творчестве, которое в течение всей жизни всеми самыми сокровенными нитями судьбы и памяти было связано с любимым Серебряным веком, с фантомами «Поэмы без героя».
Георгий Васильевич Свиридов — один из крупнейших русских композиторов ХХ века — написал немало суровых слов о нём и о его питомцах:
«В русской литературе, увы, ущербного «Серебряного века» стали процветать высокомерие и надменность»; «Ахматова — шахматная королева — на 90 % состояла из осанки и высокомерия. Снизошла к народу во время блокады. Люди, жившие с привилегиями даже в эпоху разнузданного террора; <…> за Ахматовой был прислан спецсамолёт (от Сталина лично) вывезти её из блокадного Ленинграда. Эти люди чувствовали себя избранными всегда».
Того, кто не считает мысли Свиридова о Серебряном веке верными и справедливыми, я могу познакомить с оценками той же эпохи из книги Н. Я. Мандельштам:
«Для меня главная беда в том, что этот слой осознал себя элитой <…> Таково было время, что элита создавалась повсюду, где собиралась кучка людей. Элита — властолюбивая верхушка любой группы, самозванный «избранный сосуд», возникающий путём самоутверждения» <…> «В «Египетской марке» Мандельштам взбунтовался против неистового культа. Тоже проклятые завели Трианон…»