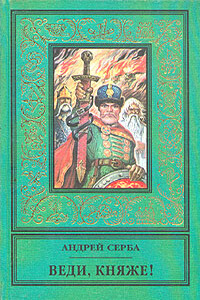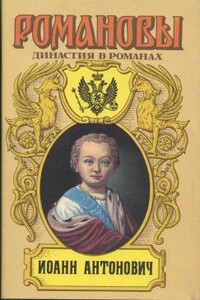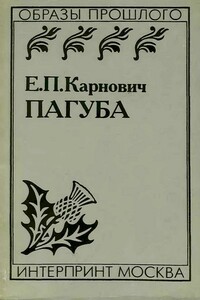Отправка в Россию великолепного и многочисленного посольства возбудила разные толки и догадки в европейских газетах, так как настоящая его цель была известна только самому малому числу лиц, вполне посвященных в тайны тогдашней французской политики. Между тем настоящей задачей Шетарди было: удержать Россию от покровительства Австрии на случай войны с ней Пруссии и убедить петербургский кабинет сделать некоторые уступки Швеции – этой постоянной и искренней союзнице Франции. Вообще же ему поручено было сеять в России раздоры и беспокойства для того, чтобы отвлечь внимание петербургского кабинета от европейской политики. Для маркиза было теперь такое время, что оказывалось необходимым вести интриги в этом направлении. Под влиянием графа Линара правительница стала на сторону Австрии против Пруссии и не желала делать никаких уступок Швеции, следуя в этом случае и внушениям графа Остермана, который, как один из главных участников в подписании ништадтского трактата, дорожил неприкосновенностью этого договора. Видя, таким образом, безуспешность своих попыток у правительницы, маркиз обратился в противоположную сторону: он постарался сблизиться с цесаревной Елизаветой Петровной, считавшейся чрезвычайно приверженной к Франции, и затем сообща с шведским посланником Нолькеном убеждал ее уступить шведам – в случае осуществления ее домогательств на русский престол – те из шведских областей, которые достались России при Петре Великом. Из депеш маркиза Шетарди видно, впрочем, что цесаревна, не отвергая помощи, которую ей для достижения ее целей предлагала Швеция, уклонялась, однако, от выдачи какого-либо письменного обязательства в том смысле, что она уступит Швеции хотя бы малейшую часть из завоеванных ее отцом земель. Маркиз, однако, не терял надежды добиться желаемого, и потому деятельно интриговал в пользу Елизаветы и во вред правительнице, от которой, как он убедился окончательно, нельзя было ожидать ничего иного, кроме самого решительного и упорного отказа.
Необходимое, однако, в настоящем случае сближение Шетарди с цесаревной представлялось делом нелегким.
«Поверите ли вы, – доносил он в Париж Людовику XV, от 9-го апреля 1740 года, – что стеснение в Петербурге развито до такой степени, и иностранные министры, мои предшественники, так поддались ему, что никто из них не бывал у великих княжон? Воспользовавшись предлогом, которого я искал, а именно тем, что они были нездоровы, – я решился отправиться к ним с визитом, и эта попытка для всех показалась новостью, обратившей на себя внимание, так что великие княжны, Елизавета и Анна, отдалили мое посещение для того, чтобы иметь время узнать насчет этого мысли царицы. Когда же они меня принимали, то г. Миних, брат фельдмаршала, находился у той и у другой, чтобы быть свидетелем всему происходившему. Это, – продолжает Шетарди, – вовсе не помешало мне выразить громко великим княжнам, так же как и герцогине Курляндской, надежду, что они дозволят мне от времени до времени являться к ним свидетельствовать мое почтение, и я тем менее пропущу это, что заведенный до сих пор обычай не более как остаток рабства; подчиняться же ему с моей стороны было бы столько же неуместно, сколько важно изгнать такой предрассудок бережно и осторожно».
При представлении цесаревне маркизу Шетарди, несмотря на присутствие при этом (в лице гофмаршала Миниха) шпиона, удалось высказать «тихо и кратко», что если он не мог выполнить прежде перед ней своего долга, то это произошло только от желания выполнить его как можно проще и естественнее. Она, как замечает Шетарди, поняла это, и так как над ней, добавляет он, преимущественно тяготеют стеснения, то она потом говорила, что была чрезвычайно тронута моим вниманием.
Сближаясь с цесаревной, Шетарди, кроме явных свиданий, имел с ней еще и тайные, а также вел переговоры с цесаревной при посредстве состоявшего при ней хирурга Лестока и через жену придворного живописца Каравака. При одном из свиданий Елизавета заметила маркизу, что здоровье младенца-императора ненадежно, что он легко может умереть и что тогда на некоторое время скроют его кончину для того, чтобы подготовить вступление на престол самой Анны Леопольдовны. Цесаревна прибавила, что ввиду этого она старается бывать как можно чаще во дворце, дабы знать в подробностях все, что там делается, и в заключение просила маркиза обратить внимание на высказанное ему ею опасение. Следуя ее внушению, маркиз заявил правительнице свое желание иметь у императора аудиенцию, но Анна Леопольдовна под разными предлогами старалась отклонить его от этого. Уклончивость правительницы еще более усиливала настойчивость маркиза. Он продолжал требовать аудиенции у самого императора, на что ему отвечали: «Это невозможно, ребенок будет кричать и может от того заболеть, и притом в каком положении будет он во время аудиенции? Мамка подержит его на руках, он расплачется – тем все дело и кончится». Упрямый дипломат не прекращал, однако, своих настояний, и ему, наконец, объявили, что желаемая им аудиенция будет дана, но затем сообщили, что предположение это состояться не может, так как у его величества прорезываются зубы. Оскорбленный этим Шетарди выразил свое неудовольствие тем, что перестал являться ко двору и в то же время продолжал посылать к Остерману ноты, в которых объяснял ему, что представители его наихристианнейшего величества короля французского всегда имеют торжественные аудиенции непосредственно у царствующих особ, а не у заменяющих их лиц, несмотря на то, кто бы эти лица ни были. Переписку свою с Остерманом маркиз подкреплял ссылками и на Гуго-Гроция и на Пуфендорфа, а также на обычаи, принятые в дипломатическом мире, присовокупляя ко всему этому философские воззрения на исключительное значение особы государя и на положение состоящих при нем представителей иностранных дворов. Особенно сильно поддразнивало Шетарди то обстоятельство, что австрийский посланник, маркиз Ботта ди Адорно, пользовавшийся благосклонностью правительницы, удостоивался чести видеть малютку-императора, хотя и в частных аудиенциях, и потом не без хвастовства рассказывал об этом среди своих сотоварищей-дипломатов. Посол французского короля считал себя крайне обиженным этим; он заключал, что Австрия взяла при петербургском дворе перевес перед Францией, между тем как одной из главных его задач было ослабить здесь влияние венского кабинета. Маркиз волновался, выходил из себя и теперь на неудовлетворение своего требования – видеть императора он уже смотрел не только как на невозможность исполнить данное ему цесаревной поручение, но и как на чрезвычайно важный международный вопрос, от разрешения которого зависело поддержание или ослабление во всей Европе высокого мнения о достоинстве и чести Франции, представляемой маркизом при русском дворе.