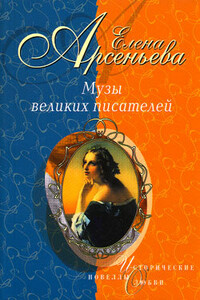— О, мой бедный отец! — проговорила молодая девушка, дрожа всем телом. — Я уверена, что ему было нелегко обещать мою руку этому извергу. Он сам ненавидит его, насколько мне известно… Но он увлекся мыслью о славе. Да, Валериано, что ни говори, а только тебе и по силам отвести его от пропасти, на краю которой он находится в настоящее время по милости Азана, сумевшего прельстить его блестящими надеждами. Мне, к несчастью, не снять повязки с глаз отца: он припишет мои попытки разубедить его в искренности далмата ничему другому, как моей привязанности к тебе. Ты видишь теперь, Сиани, — добавила, рыдая, девушка, — что я нахожусь в каком-то лабиринте, из которого мне невозможно выбраться. Ты вот предлагал мне бежать с тобой. Но предложишь ли ты это снова?.. Могу ли я платить отцу такой неблагодарностью за всю его нежность, за все его заботы, оставив его умирать ради своей эгоистичной любви?
— Нет, Джиованна, это было бы низостью! — ответил печально Сиани. — Ты не можешь оставлять отца в такой критический момент на произвол судьбы. Но тем не менее не надо унывать и следует поискать способ, чтобы вырваться из сетей Азана.
Легкий румянец выступил на личике Джиованны.
— Так ты все-таки надеешься воспрепятствовать этому браку? — воскликнула она, схватив с надеждой руку Сиани. — Неужели это правда? Неужели мы можем еще надеяться на лучшее? Ободри меня, Валериано, а иначе я разорву свои оковы в тот самый день, как положат их на меня. Клянусь тебе, что Азан Иоаннис не обнимет меня живой.
— Зачем ты говоришь о смерти? — воскликнул Сиани, побледнев при мысли о такой возможности. — Зачем приходить в отчаяние прежде времени? Дож Виталь Микели мой дядя. Я пойду к нему… Ворвусь насильно, если не пустят меня добровольно, и, раскрыв заговор его верного шпиона против нашего дорогого отечества, испрошу у него помилования твоему отцу.
С последними словами патриций прижал Джиованну к своей груди, и оба забыли на время весь мир и свое горе.
XX. Как догаресса[18] учила своего мужа делать золото
Пробило пять часов на громадной кирпичной башне Де ла Пиазета, когда дож Виталь Микели, одетый во все черное, вошел в свой дворец с такой поспешностью, что всякий подумал бы: не убегает ли он от каких-нибудь злодеев? Его добродушное лицо с большими проницательными глазами и слегка горбатым носом носило печать истинного величия. Этот человек был одним из тех великих мира сего, которые сжимают и во сне рукоять своего кинжала и прохаживаются посреди своих гостей не иначе как имея под платьем стальную кольчугу даже в дни щедрости, когда они разбрасывают горстями золото и серебро.
Дож Микели пользовался большим почетом у всех приверженцев старины: он вел свой род от трибунов, стоявших прежде во главе республики. В народе их очень уважали.
В эпоху, когда происходили эти события, патриции вели свое происхождение от официальных должностей, которые они занимали, и сохраняли характер магистратуры.
Сенат венецианский был тоже не чем иным, как старинным трибуналом, составленным из сорока человек; назывался он Советом сорока. Комиссия десяти в те времена не была еще собранием шпионов, которых боялись все начиная от самого дожа и кончая последним гондольером. Республика придерживалась простых, первоначальных форм гражданства и управлялась дожем, которому, однако, не часто жилось спокойно, потому что венецианцы были очень своевольны.
В 1069 году, например, все венецианские жители собрались возле Лидо и кричали: «Мы хотим Сильвио!» Этих слов оказалось достаточно, чтобы возвести Доминико Сильвио на трон дожей. Выбор происходил обычно в церкви, на площади или близ лагуны.
Провозглашенный народом дож становился всемогущим. Он назначал сановников, собирал Совет сорока или народ по своему усмотрению налагал подати, вел войны.
Виталь Микели, которого современные историки называли иногда Михиели, чувствовал, что почва под ним неверная. Дворец его, переполненный прежде придворными, опустел в эти дни. Поднимаясь по лестнице, дож припомнил невольно день своего избрания. Он вспомнил, как народ провозгласил его своим дожем, как он, сопровождаемый цветом венецианских вельмож, в числе которых были его племянник Валериано и патриций Молипиери, отправился в собор Святого Марка, чтобы помолиться и поблагодарить Бога за его милости.