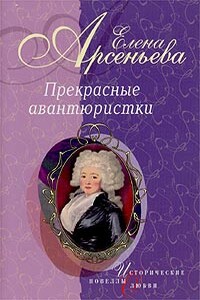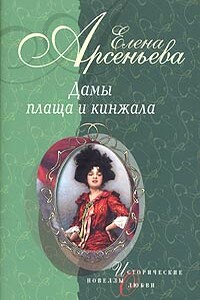Иоаннис, считая победу одержанной, подошел снова к маленькой птичнице и дотронулся жезлом до ее лба: это означало, что с этого мгновения она поступает в полное распоряжение сената.
Яркий румянец гнева выступил на щеках Доминико.
— Беатриче, зови на помощь! — закричал он ей. — Я один не могу защитить тебя, а товарищи отступились от нас. Но сейчас придет другой защитник.
С этими словами он вырвался и в одно мгновение исчез из глаз далмата и молодой девушки. Доминико хотел во что бы ни стало спасти Беатриче и решил для этого сделать все от него зависящее.
Вскоре после этого на месте возмутительной сцены появилось новое лицо.
Около старого домика, выкрашенного красной краской, лежала негодная к употреблению гондола с изорванным навесом. Последний вдруг был откинут, и сборщик увидел исхудалое, избитое, окровавленное лицо со страшно сверкавшими глазами. Человек, прятавшийся в гондоле, одним прыжком оказался в мясной лавке, помещавшейся в красном домике, схватил большой нож и подбежал к сбирам с таким проворством, которого никак нельзя было ожидать от него, таким утомленным выглядел этот мужчина. Изумленный далмат стоял несколько минут, не говоря ни слова, но, впрочем, он вскоре оправился и крикнул сбирам:
— Арестовать этого убийцу!
Но сбиры не трогались с места, испуганные неожиданным появлением страшного незнакомца.
— Это Орселли ле Торо! — послышалось в толпе. — Это брат Беатриче, он не убийца!
— Он имеет право защищать свою сестру! — говорили другие.
— Пусть поговорит со сборщиком!
— Не бойтесь его! Это не разбойник, он честный гондольер!
— Выслушаем его! Выслушаем!
— Орселли силен, как дуб, и смел, как корсар!
— Сборщику нелегко будет справиться с ним!
— Он переломает копья стрелков!
— Заступимся за него!
Шум возрастал с каждым мгновением. Чем больше чернь кричала, темь сильнее она раздражалась и ожесточалась. Имя Орселли, доказывавшего своими поступками, что он не боится ни дожа, ни сената, ни сбиров, воодушевило всех, возбудило отвагу даже в самых робких и нерешительных. Людям казалось, что само Проведение ниспослало им предводителя и защитника.
Очутившись, наконец, лицом к лицу со своим врагом, Орселли сделал своим товарищам знак молчать и проговорил грустным голосом:
— Товарищи! Венеция не должна терзать сама себя и пить свою собственную кровь. Не начинайте бесплодной борьбы, единственным результатом которой будет только радость чужеземцев, поклявшихся способствовать всеми силами гибели республики. Не втаптывайте же в грязь знамя Венеции, не допускайте, чтобы вас убивали эти наемники, на содержание которых отдаются последние сокровища святого Марка! Берегите свои силы и энергию лучше на защиту нашего свободного города. Я вышел из своего убежища не для того, чтобы убивать и калечить слуг Совета десяти, а с целью предать им себя.
Но, заметив, что эти неожиданные увещевания произвели довольно дурное впечатление на торговцев и рыбаков, Орселли изменил тон и продолжил, обращаясь к сборщику:
— Вы видите, синьор Азан, что я мог бы одним словом заставить эту толпу броситься на вас. Вчера я, пожалуй, не оказался бы таким покорным, так как вы нарушили приказ благородного дожа Виталя. Но я одумался в тюрьме, и мне совестно теперь быть причиной бесполезной резни. Я не желаю отвечать за проливаемую кровь… Я говорю с вами, синьор Азан, так смиренно, потому что вижу в ваших руках белый жезл, который представляет для меня закон. Не хочу оскорблять вас, но мне кажется, что я имею право говорить о своей сестре. Если я выдаю добровольно себя, то вы должны освободить ее.
Иоаннис презрительно покачал головой.
— Я не могу изменить свой приговор, чтобы не подавать дурной пример, — отвечал Азан. — Твоя сестра ослушалась приказаний сената, и я осудил ее за это. О ней, следовательно, говорить нечего. Что же касается тебя, то ты можешь обратиться к дожу и сенату.
— Хорошо! — ответил со вздохом Орселли. — Не стану спорить с вами. Но позвольте мне сказать только несколько слов Беатриче, пока еще есть возможность. Вам нечего бояться меня: я вовсе не думаю и не желаю противиться! Стрелки утащат меня снова в тюрьму. Но я надеюсь, что сестре позволят обнять в последний раз старую Нунциату и детей, прежде чем ее продадут в рабство… Я хотел бы дать ей хороший совет, как утешить бедную мать и маленьких братьев.