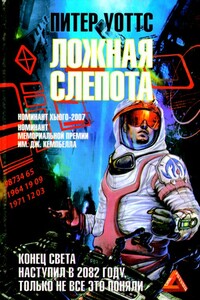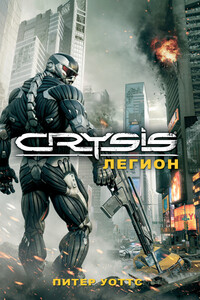В какой-то момент шина на предплечье разошлась, как вскрытая устрица. Я подкрутил люмины ровно настолько, чтобы оценить работу; заштопанная ладонь зудела и лоснилась в сумерках. От запястья наружу пролегла слишком длинная и глубокая линия судьбы. Потом я опять нырнул в темноту и неубедительную, мрачную иллюзию безопасности.
Сарасти хотел, чтобы я поверил. Ему казалось, что унижение и муки достигнут этой цели; что, сломленный и опустошенный, я превращусь в пустой сосуд, который можно будет наполнить тем, чем надо. Разве не таков классический способ промывания мозгов – сокрушить жертву, а потом склеить осколки по выбранному тобой чертежу? Может, он ждал, что меня охватит стокгольмский синдром?[78] Или его действия подчинялись плану, непостижимому для простого мяса?
Либо он просто спятил.
Упырь сломил меня и представил свои аргументы. Я прошел по его следу из хлебных крошек через КонСенсус и «Тезей». Теперь, за девять дней до Выпускного, я был твердо уверен в одном: Сарасти ошибся – он не мог не ошибиться. Я не знал, в чем, но знал это твердо. Звучит нелепо, но ничто, кроме этой уверенности, меня больше не волновало.
* * *
В хребте – никого. Только Каннингем маячил в мед отсеке, согнувшись над оцифрованными срезами, и делал вид, что убивает время. Я парил над ним, цепляясь отремонтированной рукой за верхнюю ступень ближайшей лестницы; вертушка крутилась, и я вместе с ней описывал неторопливые тугие круги. Даже с высоты в осанке биолога было видно напряжение: система, застрявшая в режиме ожидания и гниющая изнутри на протяжении долгих часов – по мере того, как со всем временем мира в руках к ней приближается судьба.
Он поднял голову:
– А, живое.
Я подавил желание отступить. Господи, это просто беседа – два человека разговаривают. Люди постоянно этим занимаются без всяких инструментов. Ты справишься! Главное – попытайся.
Я заставил себя шаг за шагом спуститься по лестнице, чувствуя, как постепенно нарастают вес и тревога. Сквозь туман в глазах попытался прочесть графы Каннингема. Наверное, я видел лишь микронной толщины фасад. А может, Роберт сейчас был рад любому, кто мог бы его отвлечь, пусть сам он в этом не хотел признаваться даже себе.
А может, мне просто все померещилось.
– Как поживаешь? – спросил он, когда я добрался до палубы.
Я пожал плечами.
– Рука, смотрю, зажила.
– Не твоими стараниями.
Я пытался удержаться, правда.
Каннингем закурил:
– Вообще-то именно я тебя заштопал.
– А еще ты сидел и смотрел, как он меня разбирает на части.
– Меня там не было, – и чуть погодя: – Но, может, ты и прав: я в любом случае отсиделся бы. Аманда и Сьюзен пытались, как я слышал, вмешаться и защитить тебя. Но лучше от этого никому не стало.
– Ты не стал бы и пытаться.
– А ты бы стал на моем месте? Выступил бы против вампира безоружным?
Я промолчал. Долгие секунды Каннингем разглядывал меня, раскуривая сигарету, и в конце концов произнес:
– Он тебя здорово достал?
– Ты ошибаешься, – ответил я.
– В чем?
– Я не верчу людьми.
– Ммм… – Он, похоже, задумался. – Тогда какое слово ты бы использовал?
– Я наблюдаю.
– Верно. Кое-кто мог бы даже сказать – надзираешь.
– Я… читаю язык тела.
Я искренне надеялся, что биолог имел в виду именно это.
– Отличие лишь количественное, знаешь ли. Человек даже в толпе рассчитывает на некоторое уединение. Люди не готовы к тому, что их мысли видны в каждом косом взгляде, – он ткнул воздух сигаретой. – А ты оборотень, каждому из нас показываешь иную маску, и я ручаться готов, что все они фальшивые. Твое настоящее «я» если и существует, то невидимо.
Под ложечкой у меня затягивался узел.
– А кто нет? Кто не пытается… вписаться, не пробует поладить с другими? Ничего дурного в этом нет. Господи боже, я – синтет и не воздействую на переменные.
– Видишь, в этом и проблема: ты воздействуешь не на переменные.
Между нами клубился дым.
– Но ты, должно быть, этого не в силах понять. – Он встал и взмахнул рукой. Окна КонСенсуса рядом с ним схлопнулись. – И это даже не твоя вина. Нельзя винить человека за огрехи прошивки.
– Отцепись от меня, сучонок! – рявкнул я.
Мертвенное лицо биолога ничего не выражало.