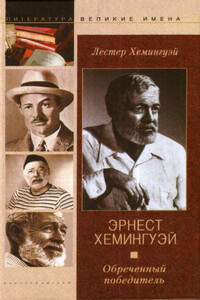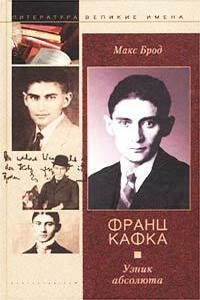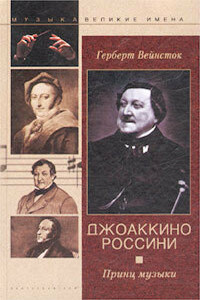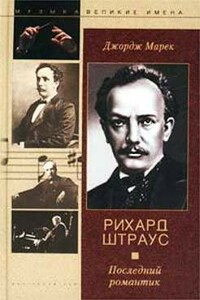Когда 2 июня Байрон отплывал на фрегате «Волаж», самым грустным было прощание с Николо Жиро, единственным существом, которое, теперь он это понял, любило его по-настоящему преданно. После отъезда Байрона Николо продолжал писать ему по-гречески, по-итальянски и позднее по-английски, выражая свою признательность и любовь[11].
Чтобы скоротать скуку во время морского путешествия, Байрон писал письма друзьям в Англии, сообщая им о своем скором приезде. Ему пришлось утешать Хобхауса, который так и не помирился с отцом и намеревался вступить в территориальную армию. Байрон уверял его, что ему не следует беспокоиться о долге (когда они расстались, Хобхаус был должен Байрону 818 фунтов 3 шиллинга). Он сообщил Далласу, своему литературному агенту, что подготовил для Которна подражание «Искусству поэтики» Горация, но ни словом не обмолвился о «Чайльд Гарольде», об откровенных строках которого так тревожился.
7 июля, когда фрегат попал в штиль у Бреста, Байрон написал Генри Друри, в своем обычном шутливом духе жалуясь на недомогания: «Приложенное письмо написано вашим другом, врачом Такером, которого я встретил в Греции, а потом на Мальте, где он посещал меня по поводу трех жалоб: гонореи, трехдневной лихорадки и кровотечений, которые приключились со мной одновременно, хотя врач и уверял меня, что эти злостные болезни не обостряются одновременно, – приятно это слышать, хотя меня они посещали с регулярностью часовых».
Байрон ступил на родную землю в Ширнессе 14 июля 1811 года, два года и двенадцать дней спустя после отплытия из Фалмута. Возможно, он до конца не отдавал себе отчета в том, насколько глубокое впечатление произвело на него это путешествие. Внешне он казался по-прежнему беззаботным. «По-моему, из этой поездки я вынес лишь поверхностное знание двух языков и привычку жевать табак», – писал он сестре Августе. Однако отпечаток, который наложила поездка, был более глубоким.
Впечатления, полученные за границей, сделали Байрона еще более непримиримым к узким ортодоксальным взглядам. «Могу поспорить, что десять мусульман не уступят вам в любви к ближнему, искренних молитвах и соблюдении законов в отношении своих соплеменников», – писал он Ходжсону, обеспокоенному его смелыми высказываниями. Политические взгляды Байрона стали шире из-за возможности сравнивать правительственную тиранию дома и в других странах. Но важнее всего было то, что на Востоке Байрон жил в таких необыкновенных условиях, которые невозможно забыть, а размышления о встреченных им удивительных людях постоянно питали источник его житейской мудрости. Он часто обращал свой взор к теплым краям, где «кипарис и мирт – символы дел, творимых под небом». Много раз в последующие годы, когда обстоятельства личной жизни пробуждали желание Байрона бежать прочь, он начинал подумывать о возвращении на берега Средиземного моря.
«Если я стал поэтом, – говорил он Трелони, – то этим я обязан воздуху Греции». Кроме неиссякающих милых сердцу Байрона фантазий, сюжеты которых он вывез с Востока и воплотил в своих произведениях, в нем глубоко укоренился космополитизм. Не случайно он выбрал отрывок из «Le Cosmopolite» девизом к «Чайльд Гарольду». Ему было суждено стать гражданином мира задолго до начала своих скитаний; домой он вернулся убежденным космополитом и всегда смотрел на предрассудки и предубеждения «маленького сурового острова» с точки зрения знаний о «нравах и образе мыслей других людей».
Когда 14 июля 1811 года Байрон прибыл в Лондон, то немедленно взялся за дела и начал возобновлять знакомства, что позволило ему отвлечься от грустных мыслей, не оставлявших его по пути домой. Его первым гостем стал Скроуп Дэвис, который в тот же вечер пришел пьяный, с «новым набором острот». Хобхаус, в конечном итоге подчинившийся желаниям своего отца и присоединившийся к армии в чине капитана, прислал Байрону привет из казарм в Дувре. Даллас, которого уже предупредили, что у Байрона готова рукопись, зашел к поэту, не теряя времени даром. Байрон признался ему, что «сатира мне лучше всего удается», и показал «Подражания Горацию». Даллас, любивший приписывать себе честь открытия «Чайльд Гарольда», впоследствии вспоминал, что был разочарован и спросил Байрона, не написал ли он чего-нибудь еще, «блуждая под безоблачными небесами Греции». Тогда Байрон достал из чемодана рукопись «Чайльд Гарольда» и показал Далласу.