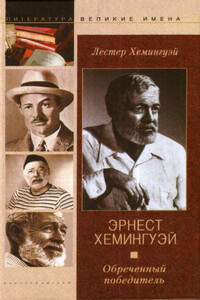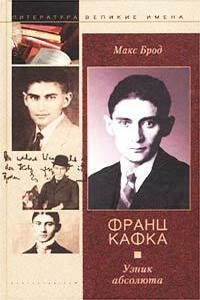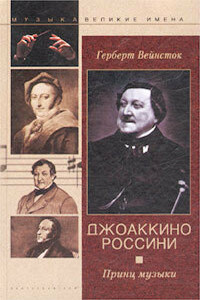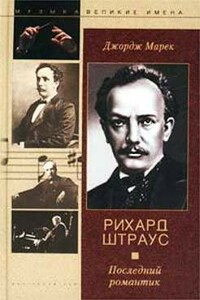По словам Гамбы, в течение одного или двух дней здоровье Байрона видимо ухудшилось. Но хотя погода стояла плохая, он настоял на верховой прогулке, которую не мог совершить несколько дней из-за дождей. «В трех милях от города, – писал Гамба, – мы попали под сильный дождь и вернулись в город вымокшие до нитки и ужасно замерзшие». Обычно они спешивались с коней у городских стен и возвращались на лодке, но сегодня Гамба убеждал Байрона остаться на лошади, чтобы разгоряченным не попадать под холодный дождь в открытой лодке. Но Байрон не хотел ничего слушать и говорил: «Хороший солдат бы из меня получился, если бы я стал обращать внимание на такие пустяки».
«Два часа спустя после возвращения домой, – продолжал Гамба, – у него началась лихорадка, он жаловался на жар и боли во всем теле. В восемь вечера я вошел в его комнату: он лежал на диване, грустный и обеспокоенный. Он сказал: «Я испытываю ужасную боль. Я не боюсь смерти, но эту боль не могу выносить».
Но Байрон не счел свою болезнь серьезной, потому что на следующее утро отправился на прогулку раньше обычного, опасаясь дождя. Всю ночь у него был жар, но он спал хорошо, хотя утром у него болели все кости и голова. Он долго ездил верхом в оливковой роще с Гамбой и стражником-сулиотом, оживленно и весело болтая. Однако по возвращении он отчитал своего кучера за то, что тот надел на лошадь мокрое седло.
Финлей, собиравшийся в Афины, вечером вместе с доктором Миллингеном зашел к Байрону. Поэт лежал на диване, жалуясь на легкую лихорадку и боли. Миллинген вспоминал, что «после нескольких минут молчания он сказал, что целый день вспоминал о пророчестве, сделанном ему в детстве известной гадалкой в Шотландии. «Будь осторожен в тридцать седьмой год жизни». Байрон говорил об этом с таким волнением, что стало очевидно, что предсказание произвело на него глубокое впечатление. Когда гости упрекнули его в предрассудках, он ответил: «По правде говоря, я не знаю, чему можно, а чему нельзя верить в этом мире».
Испытывая панический ужас перед лечением, Байрон позвал к себе доктора Бруно только поздно ночью. Он жаловался на боли во всем теле и приступы озноба и жара. Всю ночь он плохо и мало спал, а утром Бруно, как обычно, посоветовал кровопускание, но, когда Байрон наотрез отказался, врач заставил пациента уснуть, дав ему касторовое масло и прописав горячую ванну.
Пэрри пришел в субботу 11 апреля, на второй день болезни Байрона, и, встревоженный, получил его неохотное согласие готовить лодку для отплытия на Зант. Однако пока шли приготовления, болезнь обострилась, а 13-го числа, когда лодка была готова, подул сирокко и перешел в сильный ураган. Ни одно судно не могло выйти из порта. Тем временем доктор Бруно прописал порошок сурьмы, чтобы уменьшить лихорадку, поскольку Байрон твердо отказался от кровопускания и пиявок.
Доктора Миллингена позвали лишь на четвертый день болезни. Он согласился с Бруно, что кровопускание необходимо, но был вынужден смириться с отказом Байрона и решил отложить процедуру.
14 апреля Байрон встал в полдень, что делал каждый день до болезни. Он был еще слаб и страдал от головной боли. Он хотел ехать верхом, но его уговорили вернуться в постель. К нему были допущены только оба врача, граф Гамба, слуги Тита и Флетчер и Пэрри. Порой, по подозрениям Пэрри, врачи шли на ухищрения, чтобы удалить его из комнаты, говоря, что больной спит. Они знали, что Пэрри поддерживает Байрона в отказе от кровопускания, которое они каждый день ему рекомендовали. Пэрри заметил, что больной часто бредил.
В тот же день доктор Бруно пришел к Байрону вместе с Миллингеном, чтобы убедить его согласиться на кровопускание, но Байрон пришел в раздражение, «говоря, что знает, что ланцет убил больше людей, чем копье». Врачи продолжали прописывать пилюли и слабительное, а на следующий день опять вернулись со своим предложением, но Байрон вновь отказался. «Высасывать кровь из нервного больного, – сказал Байрон, – все равно что ослаблять струны музыкального инструмента, который из без того сломан без достаточного напряжения».