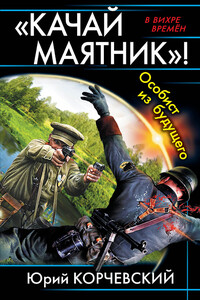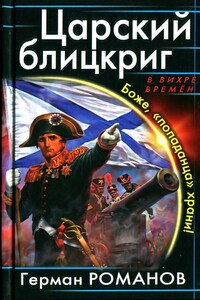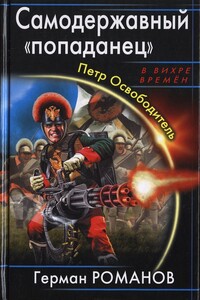Петр повертел головой — но ни долговязого царя, ни его расфуфыренного, преданного как пес, но вороватого Алексашки Меньшикова не наблюдалось. Это обстоятельство сразу же озадачило.
— Не понял! — воскликнул он. — Выходит, этой сладкой парочке на Божий свет появляться нельзя?! Либо ночью шастают, либо в сумерках приходят, на закате. Грехов, видно, много, но не все тяжкие, раз хоть на край солнца им дают полюбоваться!
Петр ущипнул себя за ногу, больно, как гусь своим клювом, но чудный сон продолжался. Так же ярко светило солнце, зеленела кругом травушка-муравушка, а из рощи слышалась перекличка птичьих голосов: птахи лесные то ли перебранивались меж собой, то ли, совсем наоборот, изнывали от внезапно навалившегося счастья.
— Ладненько, пойду куда-нибудь, осмотрю окрестности, раз проснуться мне не дают! А так прогулку совершу, может быть, чего нового в здешних пенатах и увижу…
Приняв решение, Петр бодренько пошагал по траве, по привычке положив левую руку на бедро, как бы придерживая шпагу, которой, понятное дело, у него сейчас не было.
Отдал он стальной клинок шведского короля Карла XII своему внуку, о чем порой искренне жалел. Но раз обещал, то сделал, хотя пупырчатая жаба частенько давила на душу, топорищ свои бородавчатые лапки в алчных приступах.
Дорога оказалась легкой, шагай себе по ней да шагай, любуйся пейзажем, словно сошедшим с полотен известных русских живописцев, слушай пение лесных обитателей. Прикушенная зубами зеленая травинка несла в себе легкий запах полыни, чуть горьковатой, но приятной, слегка будоражащей плоть и кровь.
Запах юности, кто ж из нас не ощущал его и не печалился спустя долгие годы, когда тоска с силой давила на сердце. Ведь прожитые годы, как та полынь — пока не ляжет снег, горечь витает в воздухе, но тем самым давая жизнь. А уж белое покрывало, словно саван, душит живое, но потом дает надежду на будущее возрождение, которого все с нетерпением ожидают, чтобы снова вдохнуть горечи жизни…
— Так и есть! — пробормотал Петр, а его ноги сами делали шаг за шагом, словно отмеряя не пройденные сажени пути, а прожитые им годы. Он шел, не зная куда, но упрямо стремился к какой-то неведомой цели, заветной и желанной, но недостижимой…
Дувр
— Цитадель наша, ваше превосходительство!
Выскочивший из темноты морской пехотинец радостно прокричал долгожданное известие и снова канул в черную мглу. Странно, но сопротивления гарнизон небольшого портового городка совершенно не оказал, да и в проливе, как это ни удивительно, русские галеры не встретили патрульных фрегатов или бригов.
Такое вопиющее пренебрежение службой несколько озадачило контр-адмирала Максимова, но не могло его не обрадовать. Теперь он надеялся, что высадка штурмовых групп по всему юго-восточному побережью Англии, от Гастингса до Дувра, прошла успешно.
— Казармы взяты, ваше превосходительство! — очередной посыльный вынырнул из темноты.
— Солдаты сдались?
— Мы их вырезали, господин адмирал!
Теперь голос был иной, уверенный в себе: говорил кто-то из офицеров, причем явно знакомый, и Максимов уточнил:
— Всех, мичман?
— Да там их немного было, господин адмирал, на раз-два в ножи всех взяли. Никто и не пикнул…
— Вы уж осторожней, Викентий Петрович, «языки» нужны!
— Слушаюсь, ваше превосходительство! В замке наверняка кого-то взяли, я мигом!
Адмирал хмыкнул. Он постоянно хвалил мичмана Гончарова за исполнительность, но уж больно потомок татарских беев презрительно относился к пленным, не считая их за людей, постоянно твердя, что настоящий воин должен драться до последнего вздоха.
Хотя, по большому счету, именно сейчас Максимов не хотел связывать себе руки пленными в столь ответственный момент. В первом броске на южное побережье шло всего полсотни галер, на каждую из которых гребцами и командой погрузились три сотни морских пехотинцев. Прорваться, судя по всему, удалось практически без потерь. Теперь следовало любой ценой удержать захваченные гавани и дождаться прибытия главных сил десанта.
— Зажечь брандеры, обозначить вход!
Контр-адмирал отдал команду, нисколько не сомневаясь, что она будет выполнена.