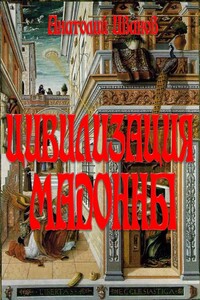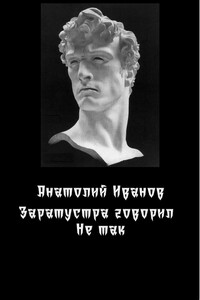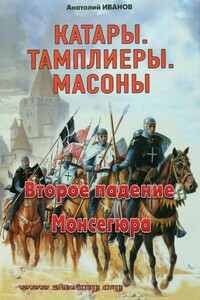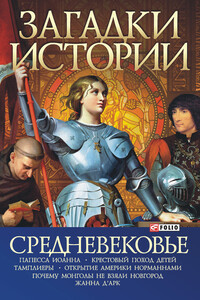Были и русские люди, которые лютовали не хуже инородцев. Взять хотя бы П.Постышева, тоже из будущих “невинных жертв”. Он возглавил в ноябре 1932 года комиссию по Нижне-Волжскому краю и потребовал “любыми средствами выполнить план хлебозаготовок”. Секретаря райкома, возразившего, что это невозможно, Постышев немедленно снял, председателя колхоза, не дотянувшего до плана 4%, – арестовал. Рвение Постышева оценили по заслугам и приставили его к Косиору, дабы следить за неукоснительным выполнением указаний Кагановича (“Комсомольская правда”, 3 февраля 1990 года).
Появился драконовский закон от 7 августа 1932 года, известный в народе как “закон о пяти колосках”. Наркомюст Крыленко требовал беспощадно карать “расхитителей социалистической собственности”. Он еще не знал, что скоро беспощадно покарают и его, а пока что страдал простой народ: 55 000 человек осудили за колоски, из них к высшей мере – 2100 (там же).
Голод охватил огромную территорию с 25 млн. крестьянского населения. Называют самые разные цифры погибших – от четырех до десяти миллионов (там же). Однако даже в эти голодные годы СССР, как это ни чудовищно, продолжал торговать хлебом с заграницей: в 1932 году в Западную Европу было вывезено 18,1 млн. центнеров зерна, а в 1933 году – около 10 млн. центнеров (там же), и европейцы спокойно ели советский хлеб, отнятый у голодающих и умирающих крестьян. Представители европейской элиты, посещавшие СССР, тогда, как и во все прочие времена, либо были слепыми идиотами, либо с успехом прикидывались ими. Так, в августе 1933 года к нам пожаловал известный французский государственный деятель Э.Эррио. Ублаготворенный пышными банкетами и приемами, насмотревшись “потемкинских” деревень, Эррио заявил по окончании поездки, что все сообщения о голоде на Украине являются большой ложью и выдумкой нацистской пропаганды. Авторы цитируемой статьи из “Комсомольской правды” считают, что эти слова “тогда сбили с толку многих обывателей на Западе”. Если бы только обывателей! Самые утонченные европейские интеллектуалы наслаждались советской пропагандистской мякиной. когда наши крестьяне давились мякиной настоящей. Б.Шоу изощрялся в циничных шуточках насчет “выдумок о голоде в СССР”. Нет, что ни говорите, как бы страшны и отвратительны не были бандиты, отвратительней любого бандита прекраснодушный “либерал”.
Победители торжествовали на костях. Такие торжества всегда выходят боком, историческая справедливость находит самые неожиданные, окольные пути, и возмездие настигает тех, кто его заслужил.
Кое-кто из партийцев начал задумываться. Но не все поняли, что думать еще можно, а говорить уже нельзя. На этом курьезным образом погорел промелькнувший в 1929-1930 годах в роли председателя Совнаркома РСФСР и кандидата в члены Политбюро С.И.Сырцов, один из палачей донского казачества в гражданскую войну, возглавлявший тогда Отдел гражданского управления Донбюро, идеолог “беспощадной борьбы с контрреволюцией”, по приказу которого в одном только Вешенском районе в апреле 1919 года было расстреляно более 600 человек (Независимая газета”, 23 апреля 1992 года). Сырцов имел неосторожность пошептаться на антисталинские темы с главой Закавказской парторганизации В.Ломинадзе, но не знал, что у стен бывают уши. Это незнание стоило обоим собеседникам всех занимаемых постов.
В 1932 году разразился новый всесоюзный скандал. В сентябре этого года была раскрыта и арестована подпольная группа под названием “Союз марксистов-ленинцев”. Возглавлял ее Мартемьян Никитич Рютин. Он родился 12 февраля 1890 года, происходил из крестьян Иркутской губернии, в 1917 году возглавил Харбинский совет, был командующим войсками Иркутского округа, командовал партизанскими отрядами, был председателем Иркутского губкома партии, секретарем дагестанского обкома. В 1924-1928 годах, т.е. при Угланове, Рютин работал секретарем Краснопресненского райкома партии Москвы и на ХV съезде в 1927 году был избран кандидатом в члены ЦК. Партийная карьера Угланова и Рютина закончилась одновременно в конце 1928 года. После этого Рютин проработал еще два года в редколлегии “Красной звезды”.