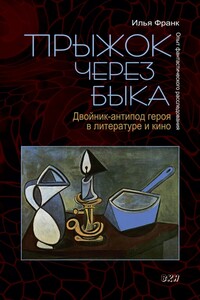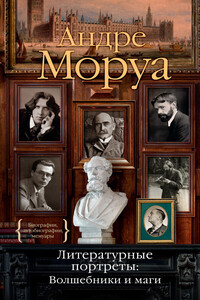Крайне важно, что принципиальная неопределенность интересующего нас высказывания оставляет столь же принципиальную возможность понимать его и как обещание спасения, звучащее в самый момент смерти героя и едва ли уже не после нее. Присмотримся к соответствующему высказыванию у Ерофеева.
Аукториальному повествованию у Кафки соответствует Ich-Еrzählung у Ерофеева. Поэтому в «Москва–Петушки» нет отделенного от героя повествователя, а смерть изображена как «смерть для себя, то есть для самого умирающего, а не для других».[148] И происходит она, как мы уже отмечали, в одиночестве, хотя и не в «ценностной пустоте» (М. Бахтин) — Бог присутствует, хотя и молчит.
Ерофеев здесь делает то, что постоянно делал Л. Толстой, но чего всегда избегал Достоевский. Ведь подобное изображение «смерти для себя», по Бахтину, возможно «только благодаря известному овеществлению сознания. Сознание здесь дано как нечто объективное (объектное), почти нейтральное по отношению непроходимой (абсолютной) границы я и другого».[149] Достоевский же «никогда не изображает смерть изнутри»,[150] ибо художнически знает, что «в переживаемой мною изнутри жизни принципиально не могут быть пережиты события моего рождения и смерти; рождение и смерть как мои не могут стать событиями моей собственной жизни»;[151] «не может быть мною пережита и ценностная картина мира, где меня уже нет <…> Для этого я должен вжиться в другого».[152]
Но самое поразительное то, что изображенная изнутри сознания героя смерть оказывается не смертью, а вечно длящимся выпадением из состояния сознания при сохранении знания об этом выпадении («и с тех пор не приходил в сознание, и никогда не приду»). Это не что иное как вечная смерть неумершего — еще одно и теперь уже последнее — пародийное переворачивание воскресения и обещанной им вечной жизни.
Такая трактовка смерти и подход к ее изображению, очевидно, и дали основание М. М. Бахтину говорить об «„энтропийности“ финала»,[153] и здесь, очевидно, лежит граница между parodia sacra у Ерофеева и карнавальностью в ее бахтинском понимании.
На эту границу читатель натыкается постоянно, но и исследователи еще не сумели адекватно интерпретировать ее.[154] Совершенно очевидно, что наряду с органической карнавальностью (подделать которую нельзя) в поэме-романе Ерофеева есть и принципиально иное («личностное», «трагико-ироническое», даже «юродивое»[155]) начало. Притом пишущие о Ерофееве в последнее время склонны считать карнавальную стихию чем-то несамостоятельным и подчиненным этому второму началу, некоей отторгаемой и оспариваемой концепцией или схемой. Вряд ли это так. Приведенный здесь материал свидетельствует о «последней» пародийности[156] творения Ерофеева, очевидно имеющей автономное значение, и вся проблема состоит в том, чтобы понять, как она соотносится со вторым («личностным»), но автономным же началом. Наукой это пока еще не сделано.