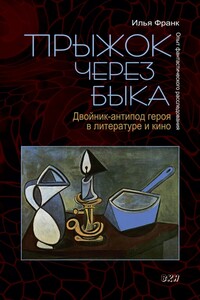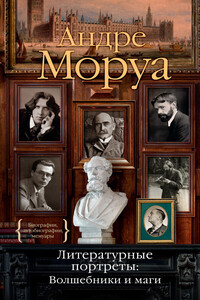Литературный текст: проблемы и методы исследования. 7. Анализ одного произведения: «Москва-Петушки» Вен. Ерофеева (Сборник научных трудов) - страница 52
Кроме того, к существующим интерпретациям этого фрагмента — в букве «ю» зашифрован инициал возлюбленной Ерофеева Юлии Руновой или опорная гласная в глаголе «люблю» — хочется прибавить ещё одну, которая, ни в коей мере не опровергая предшествующие, добавляет ещё один элемент в интересующую нас связь эротики и утопии. Буква «ю», которую знает трехлетний младенец и которую «вы и теперь-то толком не знаете», — это не только имя и глагол (имя возлюбленной и глагол «любить»), это ещё и начальная буква в названии места, которого нет, а также книги, которая есть: мы говорим о «Utopia» Т. Мора.[129]
И все же Веничка не добирается до Петушков; u-topia, как тому и следовало быть, оказывается не достижима; истина не доступна артикуляции, а путь к ней прегражден огромным количеством дискурсивных практик и присущих им риторических стратегий. Регистр символического не позволяет полностью уйти в иллюзорную гармонию воображаемого (разве что с шилом в горле). Хотя герой и использует топосы культуры для формирования своего идеального нарциссического образа и, таким образом, обходит репрессивный Закон символического, но ничего кроме уже готовых форм и структур у него тем не менее нет; прийти к истине, лежащей вне риторики, не удается. Начав свой путь в Петушки в «чьем-то неведомом подъезде» близ Курского вокзала, Веничка заканчивает его в таком же «неизвестном подъезде», что позволяет некоторым исследователям делать заключения относительно кольцевой композиции поэмы, которая не меняет статус героя и его положения в текстуальном пространстве, возвращая его к исходной точке. («Веничка и не покидает подъезда, и все путешествие происходит в его алкогольной фантазии»). Однако, независимо от того, где происходит путешествие, в фиктивной реальности повествования или в «несознательном» сознании героя (фиктивности уже второго порядка), оно не возвращает его к исходной точке. Незадолго до конца Веничка натыкается на Кремль, которого прежде никогда не видел. Кремль являет собой вершину социальной иерархии, архитектурную метафору фигуры Отца; это — символ символического. «Кремль сиял передо мной во всем своем великолепии» (с. 117).
Попытка разглядеть нечто в зазоре между собственным нарциссическим образом и реальностью культуры (между Эросом и Танатосом) приводит к внутренней фрустрации героя, а язык желания упирается в немоту. «Я не утверждаю, что мне — теперь — истина уже известна или что я вплотную к ней подошел. Вовсе нет. Но я уже на такое расстояние к ней подошел, с которого её удобнее всего рассмотреть.