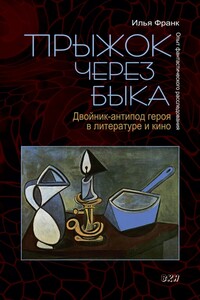Мотив «тоскующей души» возникает в главе «Москва — Серп и Молот». Специфическая классификация человека в зависимости от его способности «подняться до <…> какой-нибудь пустяшной бездны» предваряет одно из самых значимых мест поэмы, что подчеркнуто графически: все указательные местоимения выделены курсивом, курсив возникает и в выражении «чтобы не стошнило», и в финальной фразе главы, акцентируя таким образом лексическую доминанту: «Господь, вот ты видишь, чем я обладаю. Но разве это мне нужно? Разве по этому тоскует моя душа? Вот что дали мне люди взамен того, почему тоскует душа! А если бы ни мне дали того, разве бы нуждался бы я в этом?» (с.26). Потребность избежать физической тошноты объясняет необходимость бутерброда. Антиномия того и этого тошноту физическую переводит в тоску душевную, мотивирующую риторическое обращение к Господу: «Раздели со мной трапезу, Господи!» (с.27). Подчеркнутая оппозиция «того» и «этого» иллюстрируется микросюжетом о святой Терезе, уточняющим противопоставление желанного / нужного. Таким образом, тоска возникает в обрамлении антиномии и риторического восклицания.
Глава «Чухлинка — Кусково», обнаруживает, по крайней мере, одну из причин ерофеевской тоски. И вновь проступают графические знаки, акцентирующие наше восприятие. Курсивом выделены глаголы «отстраняют (меня от себя)» и «(как-то) смотрят (за мной)» (с.29). В этом эпизоде вначале заявлена тема тоски: «…я выпил пива и затосковал. Просто: лежал и тосковал» (с.29). Затем сформулировано противопоставление: «грязные животные» (четверо ребят) и «лилея» (герой). Антитеза по мере повествования усиливается: Каин / Манфред и мелкая мошка или Каин / Манфред и «плевки… под ногами». Эпизод «физиологический» есть основание для осознания себя принципиально и глубоко не понятым: «Кошмар, заключающийся в том, что понимают тебя не превратно, нет — „превратно“ бы еще ничего! — но именно строго наоборот, то есть совершено по-свински, то есть антиномично» (с.31). Герой, со своей «заповеданностью стыда», с самоограничением и необыкновенной деликатностью обрек себя на вечное одиночество, на ситуацию «чужого среди своих» или, что, видимо, точнее, «тоскливого постороннего».
«Принц-аналитик», находит абсолютное понимание только у ангелов, во второй раз являющихся страдающему Венечке («Новогиреево — Реутово»). Мера его страдания уточняется вновь в логике антитезы: с одной стороны, рай, именуемый Петушки, где «даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен» (с.38), с другой — дорога к Петушкам, т. е. не-рай, и стремится к нему тот, кто носит в себе «мировую скорбь». Герой, таким образом, во многом определяется топосом, т. е. приобщенностью к сакральному или профанному месту. Финал главы «Никольское — Салтыковская», пронизанный мотивами жизни как трагедии, есть, по сути дела, самоопределение героя: он «и дурак, и демон, и пустомеля разом» (с.40). Таким образом, риторическое восклицание редуцировано до сентенции.
Третий, и последний раз ангелы появляются в Кучино, уточняя условие своего «сопутствия» с героем: «… как только ты улыбнешься в первый раз — мы отлетим… и уже будем покойны за тебя…» (с.42) Иначе говоря, ангелы оказываются рядом только с тоскующим героем. Появляются ангелы в начале главы — отлетают в конце, как только Веничка улыбнулся при воспоминании о младенческом «противно», т. е. тошно, произнесенном сыном с блаженной улыбкой. Слово противно (тошно), сопровождаемое улыбкой, стало знаком границы первой части, где рядом с героем ангелы, и второй части, где нет тоски-муки, а следовательно, и ангелов, а есть «очищение в Кучино» и «грезы в Купавне».
Вторая часть поэмы подчеркнуто «антиномична»: безмерно расширяя сферу интимного, герой сопрягает любовь, спасающую человека, и историю, разрушающую его.
Очищение начинается с воспоминания о сыне, который заменяет отлетевших ангелов, ибо «все, что они говорят — вечно живущие ангелы и умирающие дети — все так значительно, что я слова их пишу длинными курсивами…» (с.42). Сын для повествователя становится знаком единственно возможного для смертного бессмертия, не случайно последнее, что вспыхивает в угасающем сознании героя, — это буква «Ю», символ сына.