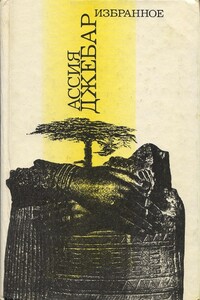Не мне первому пришли в голову эти вопросы. Соответственно, я вправе допустить, что и ответы на них давались. Впрочем, что тут допускать или не допускать, если каждому мало-мальски вдумчивому читателю уже тысяча примеров пришла на ум даже без моего суфлерского участия. Но я все-таки вмешаюсь и напомню, что это за ответы были, хотя, конечно, на тысячу версий меня не хватит.
Сперва — несколько отрывков из Александра Грина. Этот певец вымышленной географии, романтический путешественник по закоулкам приморских городов и человеческого мозга, забредал иногда на обочину зазеркалья:
«…Анготея ушла в день свадьбы, она отправилась одна по тропе, на которой находится овальное отверстие в тонкой стене скалы; оно перегораживает тропу, и часть тропы позади овала так похожа на ту дорожку, какая к нему ведет, что в воображении Фергюсона пустой этот овал превратился в таинственное зеркало, сооруженное неизвестно кем. Он рассказывает, что Анготея, должно быть, прошла в зеркало и там заблудилась…»
Чуть позже: «Мне кажется, — сказал он, избегая всякого оттенка шутливости, — что вам следовало бы взглянуть на воображаемое зеркало, на тот просвет в скале.
…Тропа шла над отсеченным обрывом, и вот показалось то, очень правильной формы, высокое овальное отверстие в поперечном слое скалы, о котором он говорил. Действительно, и позади и впереди этого отверстия игрой природы было все очень похоже, как отражение: симметрия кустов и камней, света и теней там и здесь, не считая, конечно, частностей, была повторена на удивление. Рассмотрев отверстие, Элда сказала:
— От этого он сошел с ума. Задумался…»
Два пространства, симметрично расположенные, симметрично оформленные и симметрично «меблированные», пока еще истолковываются как случайное совпадение, как причуда природы. Но не будем забывать, что уже в причуде есть привкус чуда. А именно в чуде ищет Грин главную концепцию мира то в одной вещи, то в другой; эта его склонность — не каприз играющего своими безграничными возможностями художника. Она — прочное эстетическое пристрастие, перерастающее в убежденность.
Припоминается другое произведение А. Грина, рассказ «Фанданго». Там, среди решающих по своей сюжетной роли обстоятельств, есть, например, такое. На стене комнаты висит картина, изображающая другую комнату, и эта картина служит входом в некую потустороннюю реальность, откуда прежняя комната тоже смотрится картиной. Коли вы сомневаетесь в зеркальной природе сего гриновского эффекта, вот вам реплика, произносимая двумя страницами дальше: «Я взял его из страшной тайны зеркального стекла, куда он засмотрелся в особую для себя минуту…» Не правда ли, в обоих рассказах, по фабуле как будто и разных, наблюдается одинаковая вера — разумеется, чисто художественная, а не религиозная — в «белые пятна» пространства, локализуемые где-то за зеркалом. В белые пятна, над которыми реют крылья черной магии.
Трактовка значений и символов, присваиваемых зеркалу, вполне у Грина традиционна. Такое знали за зеркалом и до Грина, и при Грине, и после Грина: необычное, до озноба таинственное и до банальности понятное, сверхъестественное и, вместе с тем, повседневное.
В чем-то подход литературы к зеркалу как пространственной конкретности и пространственной загадке повторяет (а то и предваряет) научно-фантастические программы контактов с внеземными цивилизациями. Герои ступают по неведомым землям чуть дыша, на цыпочках, осторожничают, играют в большую Науку, примечают каждую экзотическую подробность, независимо от того, имеет ли она сюжетную функцию или нет (отчасти таким образом запутывают читателя: он, как в детективе, лишен права раз и навсегда бросить якорь своих подозрений здесь и только здесь).
В своем философском рассказе «И грянул гром» Брэдбери высказал мысль о неприкосновенности естественных, исторически сложившихся причинно-следственных связей во времени. Братья Стругацкие сформулировали аналогичную идею применительно к пространству.
У Брэдбери говорится примерно следующее: если мы задним числом наступим в невероятно далеком прошлом на ничтожную букашку, произойдут мощные событийные катаклизмы, которые разительно переменят настоящее. У Стругацких принцип невмешательства в ход «посторонней» жизни принимает форму закона: землянам, выполняющим на других планетах функции пришельцев, запрещается искажать своими поправками процессы социального развития.