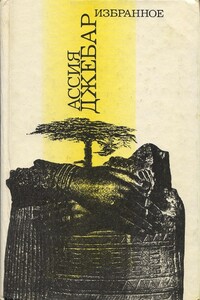А сочинители детективов — если уж сделали ставку на двойничество принимают его условия безоговорочно. И вот уже, глядя на себя со стороны, герой, следом за аудиторией, начинает сомневаться в том, что он — это он, судорожно ищет в себе чужие черты, сбивается на чужую интонацию, медленно сползает в пропасть, именуемую Утрата Своего Лица или — еще страшнее Потеря Личности. Происходящее получает реалистическую мотивировку, иногда даже со штампом медицинской экспертизы и соответствующим врачебным диагнозом: опьянение, гипнотический транс, утрата памяти и т. п. Этой методике следует и улыбчиво-водевильный Себастьян Жапризо («Ловушка для Золушки»), и кровожадный Микки Спиллейн («Долгое ожидание»), и многие другие авторы.
Двойничество на грани сумасшествия — достаточно типичная для детективного жанра коллизия, отражающая, кстати, столь же типичную общелитературную тенденцию: встреча человека со своим подобием (надо ли добавлять здесь и сейчас — зеркальным?!) часто переходит во встречу с самим собой, а встреча с самим собой — в разлад или даже в скандал.
Эту тенденцию можно с полным основанием назвать традицией, ибо первые ее симптомы различимы еще в истории Нарцисса (хотя нет никакой гарантии, что у этого мифического героя не было столь же мифических предшественников), а впоследствии — с появлением зеркала — получают в литературе повсеместное распространение: герои романа — по делу и без дела — устремляются к своему зримому двойнику, хватаясь за зеркало с тем же упорством и постоянством, что современные сыщики — за сигареты (сравнение как будто и случайное, но все-таки не безосновательное: когда сыщики курят, они тоже выясняют отношения с самими собой).
Сцена «человек у зеркала» ныне у всех на виду. «Он подошел к зеркалу и с тревогой вгляделся в свое лицо. Изможденное, испещренное морщинами, оно запечатлело ту страшную усталость, которая с недавних пор стала его привычным самоощущением. Но, помимо этих внешних следов пережитого, на лице прочитывалось еще нечто, не столь очевидное, однако же явственное и реальное, и он не смог отмахнуться от холодящего ужаса, исподволь зашевелившегося у него в груди. Что-то было в глазах у этого зеркального двойника такое, что заставляло вспомнить Долину смерти с ее испепеляющими ветрами, что вызывало в памяти зловещие картины шабаша, — и одновременно черная глубина зрачков как бы хранила ликование римских карнавалов, искрометную радость морских прогулок на катере…»
Довольно! Вынужден оборвать фразу на полуслове. Пока я импровизирую кусок несуществующего произведения, вдруг выплывает из небытия этот катер, а для него в голове у меня всего только два «коктебельских» названия: «Иван Поддубный» да «Витя Коробков». Но уж они-то, эти названия, меня тотчас же выдадут с головой — и все заметят, что моя красивая цитата — сочинена, придумана, что она и не цитата вовсе, а пространная реминисценция изо всей мировой литературы — от «Портрета Дориана Грея» до «Экспансии» Юлиана Семенова. Закамуфлированное подобие обернется откровенной пародией.
Надеюсь, свою мысль я выразил с необходимой определенностью. Тем не менее повторю ее в самом категоричном варианте: человек перед зеркалом столь же постоянный, устойчивый (хотя и кочующий по времени и пространству) мотив, столь же соблазнительная и выигрышная для художника мизансцена, как человек перед выбором, как сказочный герой на пересечении дорог.
У меня под рукой Юлиан Семенов — и в самом деле «Экспансия». Перелистываю книгу буквально наугад — и сразу же натыкаюсь на искомое: «Она никогда не могла забыть, какая брезгливость овладела тогда ею: она увидела себя со стороны, словно свое отражение в зеркале, в самые ее хорошие часы, когда она нравилась себе — особенно утром в воскресенье…
Она видела не себя даже, а какую-то женщину, невероятно, до ужаса на нее похожую; женщина стояла возле зеркала в легкой пижамке, красно-голубые цветочки по белому, и все в ее лице было прежним — веснушки, вздернутый нос, ямочка на подбородке, но это же не я, думала она тогда, я не могу быть ею, этой гадкой подстилкой».