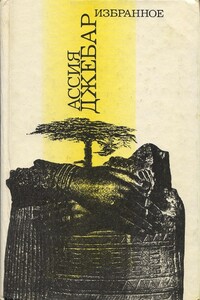В завязке обоих романов фигурирует демонический персонаж, и его выход на сцену предваряется знамением. У Бальзака в антикварной лавке статуи обратились в пляс перед Рафаэлем, «у людей, изображенных на картинах, веки опустились, чтобы дать отдохнуть глазам. Все эти фигуры вздрогнули, вскочили, сошли со своих мест… То был некий таинственный шабаш, что видел доктор Фауст на Брокене». У Булгакова Берлиозу мерещится соткавшийся из воздуха прозрачный гражданин в кургузом клетчатом пиджачке и жокейском картузике. Стать участником шабаша «клетчатому» еще предстоит, но ролью привидения он уже владеет. Даже мотив закрытых глаз у Булгакова повторяется («ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза»).
Центральный эпизод в завязке обоих романов — теологическая беседа. Ведущая позиция в этом диалоге у Бальзака, как и у Булгакова, принадлежит «посланцу ада» (прибегнем к дипломатической перифразе, потому что точное место героя в штатном расписании преисподней замалчивают оба автора).
Появление демонического незнакомца в обоих случаях сопровождается портретом с дрожащей, колеблющейся как бы сквозь марево детализацией. Инфернальное оспаривается «нормальным», а «нормальное» опровергается инфернальным. В суматошной пляске объективных признаков — или субъективных наблюдений — определяется замысел: постоянно держать демонического незнакомца на самой грани — то ли он человек, то ли дьявол, то ли он здешний, то ли «оттуда».
Для обоих портретов характерна двусмысленная ироническая тональность, поддерживаемая философскими терминами в авторской и «прямой» речи, а также другими элементами книжной эрудиции: именами великих философов (у Бальзака — Декарт, а у Булгакова — Кант), своеобразными внутритекстовыми сносками, когда громкие имена упоминаются некстати, всуе (у Бальзака — Моисей, Мефистофель, Доу, у Булгакова — Шиллер и Штраус), и т. п.
Внешность обоих незнакомцев содержит прямые намеки или даже указания на их связь с адом. В «Шагреневой коже»: «Не слышно было, как он вошел, он молчал и не двигался. В его появлении было нечто магическое. Даже самый бесстрашный человек, и тот наверное вздрогнул бы со сна при виде этого старичка, вышедшего, казалось, из соседнего саркофага. Необычный молодой блеск, оживлявший неподвижные глаза у этого подобия призрака, исключал мысль о каком-нибудь сверхъестественном явлении».
И все же автор сохраняет таинственную многозначительность: «Живописец… мог бы обратить это лицо в прекрасный образ предвечного отца или же в глумливую маску Мефистофеля» (напомним, что у «клетчатого» тоже «физиономия… глумливая»). Постепенно в портрете нарастает отказ от демонических мотивов романтизма: акцентируются бесцветные губы, маленькие зеленые глаза без ресниц и бровей, мелькает бытовое «старичок». Теперь уже это пародия на романтизм.
Булгаков выражает противоречивость героя иным способом, сообщая, что «сводки с описанием этого человека» не могут при сличении «не вызвать изумления». И продолжает: «Так, в первой из них сказано, что человек этот был маленького роста… Во второй — что человек был росту громадного». Остальные приметы также находятся в контрасте: здесь — «зубы имел золотые и хромал на правую ногу», там — «коронки имел платиновые, хромал на левую ногу». Заключительное, предлагаемое самим автором описание насмешливо упраздняет обе версии, а заодно и третью («особых примет у человека не было»).
Дается новый портрет, одновременно и вызывающий, и компромиссный: «Ни на какую ногу… не хромал, и росту был не маленького и не громадного, а просто высокого… С левой стороны у него были платиновые коронки, а с правой — золотые». А потом фривольность, обретенная в этих фразах, позволяет автору с небрежной фланерской бесцеремонностью ввести сатанинские аксессуары, например, «трость с черным набалдашником в виде головы пуделя», и под занавес еще сострить да расшаркаться: «Словом, иностранец». Теперь уж ясно: портрет незнакомца — тоже пародия. Пародия на жанр «сыщицких» донесений.
Бальзак возвращает читателя к действительности, называя координаты действия. «Это видение было ему в Париже на набережной Вольтера, в XIX веке — в таком месте и в такое время, когда магия невозможна». Булгаков также подчеркивает всяческие реалии: «В час небывало жаркого заката в Москве на Патриарших прудах». Чуть позже оба его «земных» героя подумают о «магии» почти в бальзаковских выражениях: «Этого не может быть!..» А еще позже, живописуя дом Грибоедова, рассказчик снова чуть ли не повторит Бальзака: «И было в полночь видение в аду».