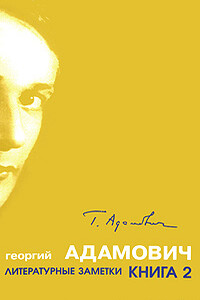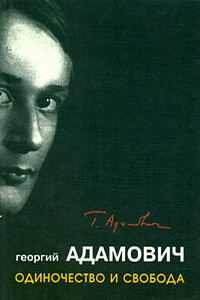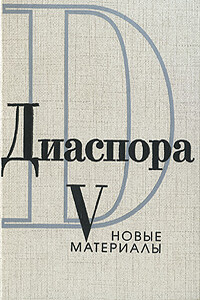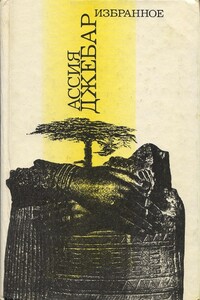Их упреки во многом правильны. Но отчасти благодаря своему дилетантизму работы Белого и были так замечательны: таков предмет их, что когда автор ссылался на чутье или интуицию вместо точных оснований, выводы его оказывались наиболее правдоподобными. Кроме того, Белый всегда сознавал ограниченность возможностей своего метода и не замыкался в нем так самодовольно, как это делают формалисты. Недавно вышла новая книга Белого «Ритм как диалектика». Хотя книга эта и названа «исследованием», она наполовину состоит из жалоб, самопохвал, усмешек, намеков, язвительных выпадов и тому подобного «полемического материала». Главные враги Белого — формалисты, в особенности злосчастный проф. Жирмунский. Белый называет его профессором от стихистики, утверждает, что профессор этот занимается не наукой, а научкой, мимоходом замечает, что «приходится нам с Гёте кланяться и извиняться за то, что мы поэты», жалуется, что до сих пор «при звуке слова Белый слово мистика склоняется во всех падежах», что его обокрали, что «получился удивительный факт: Андрей Белый еще в 1910 году начал то, что развили другие, и провалился в молчание; эти другие 18 лет под формой критики нелепостей Белого брали у него исходный пункт, а недалекий малый, Белый, где-то в молчании благодарил и кланялся…»
Без всего этого можно было бы обойтись. Белый сам дает своим противникам оружие в руки: действительно, его выкрики не свидетельствуют ни о научном спокойствии, ни о беспристрастии. Но, по-видимому, Белому в России вообще очень тяжело жить и сдержать себя он не может. В начале революции хоть были «пролеткульты», где матросы и рабочие внимали всяческой литературной премудрости жадно и доверчиво. Теперь любой полуграмотный сотрудник «Молодой гвардии» или «Журнала для всех» с высоты своего ленинизма взирает на Белого презрительно и при случае читает ему нотации. В предисловии к «Ритму» Белый в крайнем «раздражении говорит о всезнайстве — признаке ограниченности — и о самоуверенности невежд. Он понимает, конечно, что такие нападки в России — дело рискованное. Он поэтому прячется за Маркса, цитирует Энгельса, как авторитетнейшего судью в искусстве, пишет о социальном заказе у Пушкина, который в простоте душевной полагал, что его заказчиком было разоряющееся дворянство, а на самом деле работал на пролетарскую революцию…
Без этого, может быть, нельзя было обойтись. Но видеть под такими казенными пошлостями подпись Андрея Белого грустно.
Самое исследование, т. е. та часть книги, где автор оставляет, наконец, полемику и занимается делом — в высшей степени интересно. Но на столбцах общей печати говорить о нем трудно: тема слишком специальна. Пришлось бы приводить чертежи Белого, списывать его выкладки и таблицы. В частности, анализ ритма «Медного всадника» сделан блестяще, и смысловой вывод, к которому приходит Белый, о победе Евгения над Петром — «победа через смерть», — убедителен, несмотря на свою кажущуюся парадоксальность. Белый имел право написать в конце этой главы, цитируя Розанова: «быть может я и бездарен, но тема-то моя талантлива».
«Современные записки», книга XLI. Часть литературная
Новая, сорок первая, книга «Современных записок» открывается романом Шмелева «Солдаты». Судя по тому, что первой части его дан подзаголовок «Перед войной», роман будет «военный», — не в том только смысле, что в нем преимущественно описывается полковой быт, но и потому, что в нем показана будет война.
Каждый раз, когда пишешь о «Современных записках», приходится повторять одно и то же, и даже с этой оговорки статью начинать: невозможно высказываться о произведениях неоконченных. В новой книге журнала всего две беллетристические вещи: романы Шмелева и Сирина, начало одного и продолжение другого. Неправдой было бы сказать, что от них никакого впечатления еще не остается. Нет, впечатление есть. Но только об этом первоначальном, как бы еще сыром, впечатлении и приходится пока говорить, — отложив окончательное суждение до окончания того, о чем мы судить собираемся.
Шмелев — неровный, но замечательный, в высшей степени «подлинный» писатель, не совсем оцененный в наши дни, потому что нашим дням он не совсем пришелся «ко двору». Должен добавить сразу, что — на мое ощущение — это, вместе с тем, и неудачливый писатель, т.е. не так развившийся, как, вероятно, ему следовало развиться, с какими-то искривлениями в организме, от которых все, что он пишет, имеет оттенок и привкус болезненности. Иногда можно даже сказать «оттенок патологический», — как в «Истории любовной», например. Но в творческих неудачах Шмелева есть своего рода «патент на благородство»: это обломки, куски, распавшиеся части, — но это обломки чего-то перворазрядного. Гладкости и чистоты у него не найти, но напряжение есть всегда глубокое, пафос есть неподдельный. Может быть, болезненность творчества Шмелева отчетливее всего сказывается именно в несоответствии пафоса тому, о чем порой Шмелев пишет. Так было в «Истории любовной». Эта вещь была встречена критикой и в особенности читателями неодобрительно. Действительно, она растянута, тяжела, однообразна, мелочна. Но написана она была не то что плохо или хорошо, — не об этом речь, — а неподражаемо, т.е. с тем предельным своеобразием фразы, с тем предельным оживлением стиля, за которым человек чувствуется в каждом слове. Написана она была «мучительно», — как мог бы сказать Достоевский. Отчего и откуда мучение — неизвестно: влюбился мальчик в подслеповатую акушерку, — казалось бы, особенно мучиться нечего. Но мучение есть в душе автора, и о чем бы он ни писал, оно прорывается. Тень Достоевского присутствует во всех вещах Шмелева: в этом отношении Шмелев из наших старших писателей — единственный. Но, переняв или унаследовав от Достоевского его тон, — именно тот трагический, сдавленный, притушенный «говорок», которым Достоевский так изумительно пользуется, — Шмелев не перенял духовного «обоснования» этого тона, и страдание, являющееся, в сущности, единственной темой всех его писаний, у него приобретает чуть-чуть физиологический характер, без взлетов и падений Достоевского. Поясню примером: какой-нибудь Мармеладов с его исступленными возгласами: «выходите, пьяненькие; выходите, слабенькие; выходите, соромники!», Шмелеву близок, это — область, в которой Шмелев чувствует себя по-родственному свободно: жалость, унижение, обида, возмущение, бессильное просветление — весь клубок «достоевщины»; но Карамазовы от него ускользают, как и Ставрогин, и вся «метафизика» Достоевского остается ему недоступной. Оттого он иногда сбивается на совсем мелкие темы, разменивается, что бывало изредка и с Достоевским (никогда — с Толстым), — но что с ним, Шмелевым, случается неизмеримо чаще.