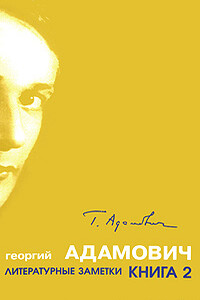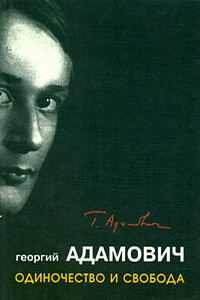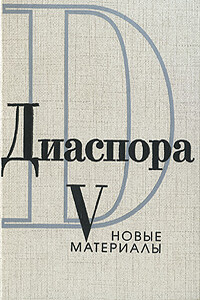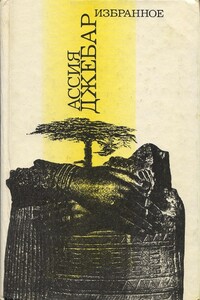– Может быть, вам не придется! Может быть, завтра после нас все переменится. А уж вы живите с Богом, будьте счастливы!
С высоты нашей теперешней многоопытности легко, конечно, усмехнуться с презрением над такой наивностью. Легко прочитать простачку-террористу соответствующую нотацию. Но в ошибках и заблуждениях наших поколений разберется история. Грехи найдутся у всех… Мало только у кого найдется в искупление ошибок такая готовность к жертве, такое забвение себя и своей жизни, как у этих людей. Осоргин прав, молчаливо подчеркивая, что никакие внешние события не могут (или, вернее: не должны бы) изменить нравственной оценки их облика, в котором не знаешь, чему больше удивляться — безумию или чистоте. И оттого, вероятно, «Олень» оказался проникнут необычным одушевлением, что, как прежние авторы предчувствовали при разработке подобных тем сочувствие, так теперь Осоргин предвидел упреки и отталкивание, — и ему надо было «сломить сопротивление», убедить в правильности своего взгляда, заразить своим пафосом вообще. Это ему удалось. Он не оправдал деятельности террористов, — да едва ли и стремился к оправданию, — но ясно и мужественно (по теперешним дням мужественно!) напомнил, что их нельзя все-таки называть «просто убийцами», как это иногда делается людьми бессовестными или безответственными.
Чем сильнее увлечен писатель своей темой, чем отчетливее он ее видит, чем сильнее он убежден в нужности и своевременности своей работы, тем он и пишет лучше. На «Олене» можно еще раз проверить правильность этого общего закона. Даже и в чисто литературном отношении это едва ли не самое удачное произведение Осоргина за последние годы. Обычный осоргинский лиризм, несколько расплывчатый и беспредметный, еще дает себя знать в первых главах рассказа, но к концу он исчезает совершенно, уступая место суровой сосредоточенности стиля и тона.
«Три желания» А. Ремизова — тоже отрывок из большой повести и, вместе с тем, тоже вполне законченный рассказ… Рассказ, как всегда у Ремизова, искусный, замысловатый, хитрый, со множеством «подводных течений» — не только двойным, но и тройным, и четверным. Описывается как будто только неудачное путешествие двух русских эмигрантов на богомолье в маленький городок в Бретани, а на деле в каждой строчке намеками, полусловами, оборванными фразами сказано что-то добавочное, к Бретани и поездке под проливным дождем вовсе не относящееся. Фабула рассказа не совпадает с содержанием его, и одно другим в «Трех желаниях» не исчерпывается. Фабула, кстати сказать, отдаленно напоминает повесть Шмелева «Про одну старуху» — и сходство не уничтожается тем, что там речь идет о Советской России и деревенской бабе, поехавшей за хлебом, а здесь, у Ремизова, действуют интеллигенты, изучающие «Синтаксис» Шахматова и путешествующие не в теплушках, а в автокарах. Общее — в предельной измученности людей, о которых рассказывается, в передаче того одиночества и той нищеты, когда человеку кажется, что камни должны «возопить» к небу. Ремизовский герой во французской толпе исполняет на месте паломничества обряд: поднимается по священной лестнице, произнося три желания, которые после этого по милости местной святой «непременно должны исполниться». Каковы же эти три желания?
«Первое — достать деньги; второе — надо денег; третье — если бы были деньги».
Дальше начинается одно из тех «стихотворений в прозе», которые Ремизов так любит вставлять в свои повести: витиеватое, вдохновенное, от заискивания переходящее к угрозам, от жалоб к ропоту, — очень сложное. Тема его — деньги. Жаль, что нельзя привести его целиком, тем более жаль, что, как это ни прискорбно, оно по содержанию своему многим и многим покажется чрезвычайно «актуально»:
«– Деньги! Что бы я только сделал, если бы у меня были деньги! И что тут кощунственного в моих желаниях! Я хочу и прошу денег! “Деньги голуби, прилетят и опять улетят”, — есть такое по-русски, взято Достоевским. Я согласен, я и не собираюсь беречь, я хочу расточать. “Богатство питается кровью бедных, деньги — кровь бедного”, — это слово беднющего из бедных, Леона Блуа… Понимаете, мне надо этой братской крови… Я хожу по улицам, если бы я умел, я мог бы рассказать о беде, перед которой опускаются руки… и какое лицемерие, какое ханжество, какие громкие слова и негодование, и упрек в развращенности, разврате и преступлении, а это — эта точащая беда изо дня в день, эта обреченность без просвета и терпения, почему же об этом жутком стиснутом терпении… и это будет! Вы увидите! И самому жутчайшему и самому безропотному придет конец».