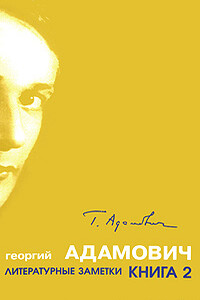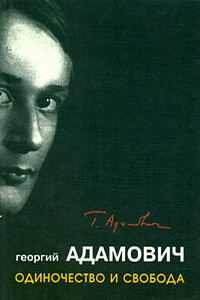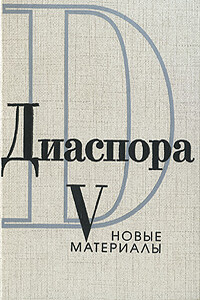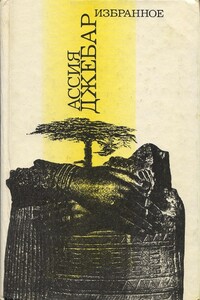Я только что заметил, что Лермонтов не успел стать мастером. Многое в его творчестве надо отнести на счет юности его, многое объяснить ею, и, думается пуля Дантеса не унесла в могилу столько «несвершенных свершений», сколько пуля Мартынова. Духовный рост Лермонтова совершался непрерывно, как увеличивалось — несмотря на отдельные срывы — и его владение словом. Одно только сравнение последовательных редакций «Демона» в этом убеждает. Но я позволю себе для большей убедительности привести стихотворение, написанное поэтом за год до смерти — не столь известное, чтобы его все знали наизусть, хотя и достойное этого:
Любил и я в былые годы,
В невинности души моей
И бури шумные природы,
И бури тайные страстей.
Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг,
И мне наскучил их бессвязный
И оглушающий язык.
Люблю я больше год от году,
Желаньям мирным дав простор,
По утру ясную погоду,
Под вечер – тихий разговор.
Стихи написаны в альбом. Они случайны и заканчиваются шутливой строфой, по существу не имеющей к ним отношения… Но эти 12 строк, как прелестны они и как законченны! Мастер своего дела пробуждался в зрелом Лермонтове. И не только мастер: разве нет в этом стихотворении ответа на «Парус», поздней, зрелой поправки к его заключительному двустишью и вообще к байронизму? По таким вещам и можно судить, что потеряла Россия в роковой июльский день 1841 года.
Несколько слов в заключение – о прозе Лермонтова. Удивительна в ней ее новизна по сравнению с прозой современников, ее обращенность от XVIII века к будущему. В то время как все другие заботятся почти исключительно о совершенстве создаваемой вещи, Лермонтов ищет правдивости, полноты и глубины человеческого образа. Внутреннее у него впервые противопоставлено внешнему. Если верно, что вся позднейшая русская литература вышла из шинели Акакия Акакиевича, то, продолжая эту не совсем удачную метафору, надо было бы по справедливости вспомнить еще и о печоринской черкеске.
ЧЕЛОВЕК В СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
I
Каждый читает книгу по-своему, – и свое в ней находит. Одни, торопливо переворачивая страницу за страницей, стремятся узнать только: что случится дальше? Других интересует: что хотел сказать автор? Третьи ищут художественных достоинств, ценят больше всего блеск описаний или остроту стиля… Конечно, разнообразие читательских «типов» этими категориями не исчерпывается, а главное, – ни в одну из них не укладывается вполне. Живое сознание – не схема. В каждом сознании только преобладает та или другая склонность, но не заполняет его целиком.
Советская литература многих отталкивает. Нередко здешним критикам приходится слышать: «зачем вы обо всех этих Пильняках и Бабелях пишите? Какое нам до них дело? Не безразлично ли, что один талантливее, другой бездарнее? Все они – одного поля ягоды». Такие речи диктуются иногда соображениями, которые никак нельзя принять всерьез: «не хочу, например, читать книгу, отпечатанную по новой орфографии, без ятей и твердых знаков; или: не могу без дрожи слышать слово товарищ». Это – как бы «первая ступень» возражений, которые делаются против внимания к советской литературе, первая ультраобывательская фаза их. За ней, может быть, и есть личная боль, личные горькие воспоминания и обиды, но есть и каприз, упрямство, с которым слабая мысль не в состоянии справиться. Другие говорят: советская литература скучна. Это, до известной степени, верно, как верно и то, что в художественном отношении она находится на уровне довольно низком: для оценки и понимания ее требуется снисходительность, для снисхождения нужна доброжелательность. У кого этого свойства нет, тот найдет в советских романах и повестях, — за немногими исключениями, — только пищу для насмешки, ничего больше.
Два слова сначала о «скуке». В большинстве советских произведений, — как и почти всегда в творчестве малоразвитой культуры, — действие подчинено формуле «от мрака к свету»: коснел кто-нибудь в заблуждении, был несчастлив, — познал истину, стал счастлив… Рабочий пьянствовал, нищенствовал; приятели уговорили его сходить на собрание в «ячейку»; там его образумили; он записался в партию, понял величие борьбы за социализм и другим стал подавать пример. Или темная деревенская баба терпела побои от мужа, — но вот записалась в колхоз, сдала детей в ясли и нашла цель жизни в общей работе. Действительно, читать такие вещи скучно. Сразу, с первых страниц знаешь, чем дело кончится, и даже в тех случаях, когда торжество добродетели и посрамление порока не так очевидно, как я только что предположил, все-таки можно быть уверенным что коммунист окажется прав, а всякий другой человек неправ. Иначе не бывает, – и эта тенденциозность расхолаживает. Помимо того, «художественность» советской литературы, в общем, очень невелика. Нам случается иногда, по отношению к тому или другому роману, употреблять эпитеты «блестящий», «замечательный» и т. д. Надо сознаться: все это говорится только относительно, только по сравнению с общей массой приходящих из России книг. Разумеется, человека, привыкшего хотя бы к среднему современному европейскому уровню беллетристики, — особенно французской и английской, — средняя советская книга поражает прежде всего дурным качеством «выделки». («По-русски — работа, по-ихнему — дрянь», — можно вспомнить здесь стих Безыменского.) Все грубо в ней, все наивно и неумело. Если в советской литературе имеются достоинства и есть даже величие, то обнаруживается это после долгого чтения, не сразу, а только как результат улежавшихся, очищенных впечатлений. Отдельные книги лишены тех качеств, которые можно охарактеризовать как «ювелирные». Одна лучше, другая хуже, но, в общем, это — «по-русски — работа, по-ихнему — дрянь». Единственное в России, что находится сейчас на уровне высокой европейской «квалификации», — это проза поэтов: Пастернака, Тихонова… Отчасти с ними могут соперничать, по качеству работы, такие беллетристы, как Олеша или Бабель. Но Леонов, например, который все-таки наиболее значителен среди молодых советских писателей, с ювелирной точки зрения совсем слаб. От его книг остается в памяти только «музыка» их, только расплывчатые очертания замысла, – отдельные же страницы все забываются. Эстетическая неприязнь к Леонову – и писателям его склада – понятна и естественна, особенно на первых порах знакомства. Пожалуй, только если эта эстетическая неприязнь затягивается, она свидетельствует о пристрастии к «художественности», в самом узком, ограниченном смысле слова.