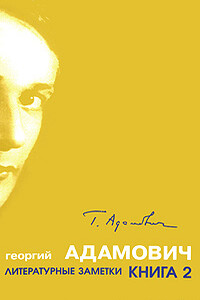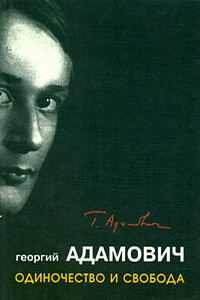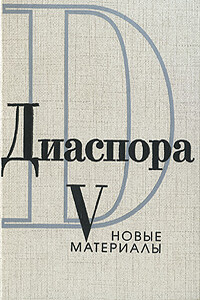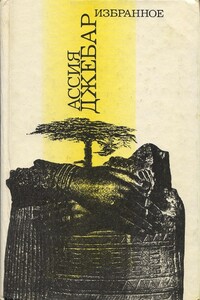Несколько эпизодических действующих лиц, чрезвычайно метко обрисованных, кое-где оживляют повесть, будто автор делает читателю уступку, «поблажку». Скупые и редкие диалоги введены, по-видимому, с той же целью. Главное же самое существенное в «Обмане» — это запись и анализ чувств, мыслей, получувств, полумыслей, едва уловимых, мимолетнейших «переживаний», которым автор не дает улететь, на которые с маниакальным упорством наводит он свой микроскоп, холодно, рассудочно, без жалости к себе и не оставляя в живых ни одной иллюзии. В конце концов возникает вопрос при чтении, — довольно трудном в своей абстрактности, но если эту первоначальную трудность преодолеть, всегда интересном, всегда «содержательном», — возникает вопрос, нужны ли все эти паутинные, анемичные тонкости, вызывают ли они в нас какие-либо эмоции, — короче, искусство ли это? Вопрос остается без ответа, ибо «что есть искусство» такая же загадка, как «что есть истина». Каждому свое, у каждого и эмоции свои. Конечно, если придерживаться традиционного и успокоительного мнения, будто «искусство там, где есть образы», тогда все просто как дважды два: есть образы, значит есть искусство, нет образов — нет его. Но, кажется, у этого взгляда защитников больше нет (кроме советской России, где за борьбу против обязательности «образа» преследуется теперь В. Шкловский, как посягатель на заветы Плеханова и Ильича). О Фельзене же надо заметить, что к концу своей повести он достигает подъема несомненного, отчетливо лирического, ни в чем себе не изменяя и оставаясь все тем же спокойным и трезвым созерцателем.
Очень спорен в книге язык. Автор часто не в ладу не только с грамматикой, но и с самим «духом» русской речи. Но нельзя отказать ему в наличии стиля: фразу Фельзена не только узнаешь из тысячи других, но ее и запоминаешь, удачна она или плоха. Эта фраза пристает к памяти, настойчиво входит в сознание, и, прочтя «Обман», порой сам себя ловишь на том, что начинаешь «думать по Фельзену».
У молодого писателя — эта особенность редкая и многообещающая.
* * *
Повесть Л. Овалова «Болтовня» — тоже записки, тоже дневник. Но совсем в другом роде.
«Болтовня» — это книга, которую за последнее время усиленно выдвигает московская критика, находя в ней всякие достоинства и если и не приравнивая ее к таким великим классическим произведениям, как «Цемент» или «Бруски», то все же признавая ее талантливой, блестящей, нужной и «органически пролетарской».
В том, что Обвалов, человек, действительно, талантливый, сомнений нет. С первых же страниц его повести в этом убеждаешься. Она своеобразно написана, полна движения, и в быстрой смене картин автор обнаруживает наблюдательность и умение рассказывать. Но к бойкому и живому повествованию пригнана убогая, трафаретная идейка, и это книгу губит.
Записки ведет старый рабочий, наборщик. Иронически он свой дневник и называет «болтовней». Болтает старик Морозов обо всем, что взбредет в голову, но, главным образом, о непорядках, происходящих вокруг, и о том, как их искоренить. Болтовня его проходит, так сказать, «в плане самокритики».
Например, не любят рабочие свой труд, производство. «Как можно не любить производство? – возмущается Морозов. – К самому загаженному домишку привыкаешь. Привыкаешь, называешь свое чувство, паршивенькую привычечку “любовью”. А тут. Многие стремятся от станка домой, в ласковую комнатенку, в затхлый уют… Мещанство».
Коммунисты не понимают своего долга, своих обязанностей. Относятся ко всему по-казенному, отговариваются «перегрузкой». Морозов не коммунист, но он пролетарий настоящий, не «липовый». Он бесстрашно указывает видным партийцам на их ошибки, он спорит с ними и часто оказывается прав.
В типографии рабочие хулиганят. Морозов наставляет их на путь истинный. Добродетель старого наборщика доходит до того, что когда сыну его изменяет жена, он, чтобы утешить плачущего Ивана, клевещет на его мать, свою жену. Велико дело, подумаешь, изменила. Все женщины изменяют… «Спускаюсь по лестнице, трогаю дверь — на крючке. Крючок был слабенький, а я сильный — рванул дверь к себе, распахиваю, и предо мною мать твоя и Гаврилов… На столе початая бутылка с лиссабонским, а сами они, понимаешь… нагишом».