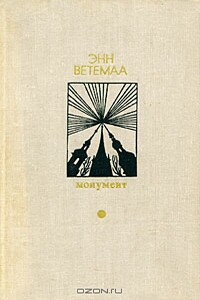Отцу вообще не нравились заумные разглагольствования, он вроде бы стыдился их и во время своей уточняющей тирады повернулся спиной к сыну, несколько обескураженно и вовсе не по-джентльменски засунув большие пальцы за подтяжки, оттягивая и хлопая ими. Архитектор, который во время игры в теннис держал за щекой зеленую конфетку, право, не поступил бы так.
Итак, педагогический эпизод запечатлен и справедливость восстановлена.)
Заглянем глубже, вернее попытаемся проникнуть в те душевные закутки, санитарным состоянием которых мальчик был удовлетворен далеко не полностью. Там жили инстинкты, отнюдь не достойные похвалы — правда, их подавляли, запирали на засовы, но это мало помогало. Они пускали грязновато-белые ростки, смахивающие на картофельные (вовсе не кремово-белые). Говорят, эти ростки, лишенные солнца и хлорофилла, ядовиты, похоже, так оно и есть.
Больше всего сознание молодого претендента на джентльменский и теперь в достаточной степени утонченный европейский образ жизни смущала засевшая в катакомбах подсознания Кристина, или Кристина-клинок, как звали ее односельчане в той самой деревне, покуда все еще анонимной, где школьник проводил свои каникулы.
Что же это была за женщина? — вынуждены мы спросить. Какая скверна в ней таилась, коль скоро из-за нее в молодой душе зрело крайнее недовольство собой? И почему она, вопреки всем усилиям беззащитного юноши, стоявшего на пороге зрелости, донимала его, по крайней мере по ночам?
— Весьма вульгарная женщина, — как-то в присутствии молодого человека сказала о Кристине его мать, чрезвычайно редко выносившая однозначно осуждающие оценки. Еще о Кристине говорили, будто она позорит деревню. А если бы спросили мнение сухотелых тетушек, отличавшихся водянистыми глазами и собиравшихся кучками возле баптистского молельного дома, тех самых, что мечтают о высоком титуле Христовой невесты (ведь Иисуса изображают на рисунках красивым брюнетом, и, надо полагать, все эти тетушки до смерти ему надоели), то непременно услышали бы в ответ, что в этой на вид тридцатилетней женщине цыганского склада сидит сам Вельзевул.
Мужчины в основном относились к Кристине терпимо; разумеется, преимущественно те мужчины, которых можно причислить к греховодникам. Да и вообще Кристина больше ладила с мужчинами, чем с женщинами — вместе с ними у магазина тянула прямо из горлышка пиво и кое-что покрепче, примостившись на деревянном ящике, «отклячив зад», как судачили кумушки. И еще вроде бы Кристина гнала самогон, добавляя в него всякие разные снадобья, сводящие мужиков с ума, известно с какой целью…
Кристина — женщина в соку с низким, несколько хрипловатым голосом, жизнерадостная смуглянка, — конечно, обладающая «дурным глазом», способная наслать любую порчу на ближних своих и на их скотину. Она вполне сошла бы за цыганку, если бы не присущая ей тяжеловесная медлительность. И все же — пусть не по части темперамента — нечто цыганское в ней явно проглядывало, в манере одеваться и особенно в отношении к мылу и мочалке, поскольку она полагала, что вполне достаточно попрыскать на себя одеколоном. Приторно-сладкое облачко клубилось вокруг Кристины, такое чарующе-дурманящее благовоние и впрямь может сбить мужика с пути истинного, увлечь в геенну огненную. Разумеется, наш будущий мужчина не верил в преисподнюю, хотя понятия Добра и Зла все же наличествовали в его сознании как некие основополагающие представления. И его чуткий нюх улавливал их запахи, ибо для него существовали запахи добра и зла — в данном случае можно даже говорить об этике духов.
Кристина на протяжении нескольких лет возбуждала в молодом человеке (собственно, когда это началось, он еще был мальчиком) определенное беспокойство, волнение, некий неосознанный стыд. Когда он встречал Кристину-грешницу возле магазина или просто на шоссе, он как-то внутренне подбирался, и она, естественно, ощущала это. Поздоровавшись, Кристина умышленно задерживала мальчика, подходила ближе и спрашивала что-нибудь о дедушке или об отце. Чаще всего что-нибудь совершенно несущественное. Сама она покачивалась взад-вперед — была у Кристины такая привычка — и под ее плотно облегающим, тут и там расползающимся по швам, ярко-красным ситцевым платьем слегка колыхалось тело, какое-то особенно плотское тело, колыхалось, насколько позволяло платье. Ее могучие груди, чьи размеры, вероятно, определил сам Вельзевул, не желали умещаться в лифе и каждую минуту грозили выскочить на белый свет. Вот именно