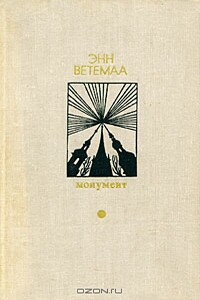Однако постепенно в нем крепло уважение к джентльменам (а как ты еще их назовешь?) среднего и пожилого возраста, которые сначала казались ему комичными. Эти архитекторы, музыканты, инженеры, директора, врачи составляли тогдашнюю теннисную элиту, являлись лидерами так называемого Теннисного клуба. Они не слишком заботились о классе игры, не корячились из последних сил, ни в коем случае не унижались до стиля, находившегося в противоречии с fair play[11]. Одевались джентльмены не совсем обычно — в обязательном порядке носили белые брюки. Впрочем, совсем белыми им, кажется, быть не полагалось, больше почитался некий блеклый, молочный, бежеватый тон, под цвет слоновой кости. Были среди игроков знакомые отца, в частности, один архитектор, ставший для молодого человека идеалом джентльмена. Он носил особенно «выдержанные» бежевато-белые брюки, особенно белые носки грубой шерсти, слегка прихрамывал, что вовсе не мешало ему играть, даже присовокупляло некоторую элегантность. И еще молодой человек приметил, что перед выходом на корт архитектор закладывал за щеку зеленую холодящую конфетку. Мятные конфетки он держал в оригинальной жестяной коробочке.
И еще были господа постарше, перевалившие за шестой десяток. Их удары заметно отличались от ударов игроков младшего поколения и явно носили печать начала века: удары справа выполнялись особенно яростно, а когда они подавали, кое-кто вспоминал о Большом Билле Тилдене и о разных вариантах американской крученой подачи. В раздевалке или в душе они говорили о диете и избыточном весе. Два пожилых господина горячо дискутировали о предстательной железе, очевидно недуге весьма изысканном, и юноша, понимая, что старости все равно не избежать, сам не прочь был пострадать от этой рафинированной болезни.
Если не первой ракеткой, то уж солидным игроком я должен стать, ставил он перед собой цель. Может быть, в стремлении к такого рода идеалу тоже было примирение с неизбежностью, поскольку он обычно проигрывал своим двужильным сверстникам, у которых мячи были лысые, струны на ракетках то и дело лопались, чему они, впрочем, не придавали ни малейшего значения. Причем проигрывал с разгромным счетом! Самый уважаемый тренер Крее в упор не видел молодого человека, как бы тот ни изощрялся у него на глазах.
Однако в ту пору, именно тогда, когда молодой человек упорно стремился к идеалу солидности, к спортивному образцу в его европейском виде, он вдруг перестал понимать своего отца: тот начал посматривать на сына как-то саркастически и с ухмылкой, словно бы посмеиваясь над ним про себя. Почему?
Более того — отец стал прибегать (конечно, не на кортах) буквально к дьявольским козням, чтобы уязвить достоинство молодого человека. На дороге, ведущей к джентльменской идее возвышенности, всё чаще стали опускать бело-красный шлагбаум. Почему? Но прежде всего несколько примеров.
Не следует забывать, что во время войны во всем ощущалась нехватка и прежде всего, конечно, в продуктах. Теннисный клуб уподобился бездонной яме, прорве, и само собой, джентльменам пришлось затягивать пояса на своих кремовых брюках, чтобы удержаться на плаву. Они шли на это, ибо иллюзии способствовали сохранению собственного достоинства.
Родители мальчика в основном перебивались продуктами, поступавшими с дедушкиного хутора. По субботам отец уезжал в деревню, а в воскресенье возвращался с разнообразными съестными припасами, правда, не бог весть какими, но среди прочего почти всегда оказывался мешок картофеля. Машин в то время почти не было, у вокзала свои услуги предлагали перевозчики с тележками. Отец прибегал к их помощи, поскольку на собственном горбу не мог донести такую тяжесть, тем более что жили они далеко от станции.
Однако в один прекрасный, нет, в один премерзкий субботний день юноша, священнодействовавший перед зеркалом над недавно вошедшим в моду узлом галстука, услышал странный грохот, доносившийся с улицы. Он подошел к окну и увидел, что отец, человек, пробудивший в нем так называемые европейские идеалы и вроде бы презиравший восточный асимметричный лад, толкает перед собой дерьмовую тележку, цельнодеревянную, кричаще-оранжевую, цвета карбункула! Колеса и те деревянные, точно донышки бочки, забранные железным ободом. Каждый метр, пройденный по булыжной мостовой, производил такой треск, словно разряжали полный диск автомата. А сам отец торжествовал, не в силах скрыть улыбку. И стыда ни в одном глазу!