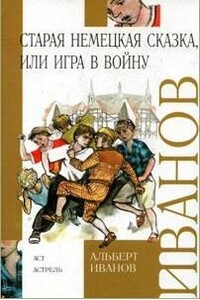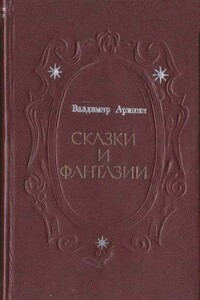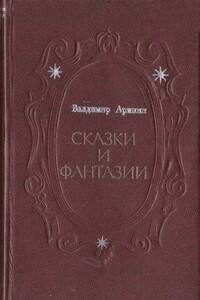Ажурная металлическая мачта, высившаяся рядом с фонарём, и впрямь оказалась краном — он загудел, заскрежетал. Продетые проволокой, нижние края сети, сжимаясь со всех сторон, сомкнулись под бездомными скитальцами огромным мешком, и мачта подняла всех в воздух.
Тут же, деловито урча, подкатил открытый грузовичок, до этого скрывавшийся наготове где-то в ближайшем переулке. Очевидно, здесь он назывался не «собачьим», а «человечьим ящиком». Сеть с пленниками незримые «человечники» сбросили в кузов, и водитель — беспородный пинчер, прорычав приветствие невидимым ловцам людей, скрывавшимся где-то высоко вверху в кабине крана, повёз добычу прочь. А выскочившие из тьмы проворные шавки начали готовить новую бутафорскую приманку на скатерти под фонарём.
Вскоре грузовичок — пленники угрюмо притихли в кузове — остановился возле низкого мрачного строения с частыми решётками на окнах. В глубине двора высилась зловещая кирпичная труба.
Выскочившие из караулки клыкастые охранники — доги, расстегнув сеть, похватали пленников и мигом отправили в камеру. Оглушительно лязгнул засов, и бездомные бродяги очутились в темноте. Несколько крупных звезд виднелось в окне и казалось, что они тоже пойманы и сидят за решёткой в соседнем, хотя и более просторном, помещении.
Пальчик вспомнил жуткие слова Гава: «С меня — штраф, а тебя…», и горько заплакал. Никто не попытался его даже утешить. Люди как бы поменялись с собаками жизнью. Так, в прежнем мире Пальчика ни один пёс не стал бы жалеть другого, попавшего вместе с ним в беду. Разве что собака-мамаша, успокаивая, принялась бы вылизывать своих заскуливших щенков.
Ещё в кузове машины Пальчик пытался заговорить с другими пленниками — ну и пусть они вроде иностранцев, а всё-таки можно же друг друга понять или ободрить хотя бы взглядом, жестом, пожатием руки наконец! — но они молча смотрели на него равнодушными, тупыми и по-звериному обречёнными глазами. Вначале-то, когда их только поймали, была вспышка яростного отчаяния: они кричали, рвались на волю, а затем безысходно замерли, полузакрыв глаза, и лишь изредка вздрагивали всем телом.
Такое же продолжалось и в камере. Приткнувшись кто где, все по-прежнему молчали и вздрагивали. Лишь в одном молодом оборванце неожиданно пробудилось что-то человеческое. Не вытерпев скулежа Пальчика, он больно щёлкнул его пальцем по макушке — да уймись ты, мол, и без того тошно! Как ни странно, Пальчику стало легче. Он сразу умолк, почесал затылок и принялся лихорадочно размышлять, как дать тягу отсюда.
Нет, бесполезно…
Дверь закрыта плотно — ни щёлочки. А решётка на окне, даже если тебя туда и подсадят, — такая частая, что сквозь неё, даже ему, и голову не просунуть. Подкоп тоже не вырыть — пол цементный. А самое страшное: неизвестно, когда за ними придут. Пальчик понимал, что его ждет. За свою маленькую жизнь он уже прочитал немало книг и ещё больше посмотрел фильмов, в кино и по телевизору, чтоб знать, какая судьба ожидает, к примеру, пойманных бездомных собак. И та кирпичная труба во дворе, которую он увидел, когда их стаскивали с машины, не оставляла в том никаких сомнений. Только сейчас Пальчик по-своему понял выражение «вылететь в трубу» — это значит: дымом, пеплом, прахом…
Внезапно вспыхнула лампа на потолке. Проскрежетал засов, железная дверь отворилась — появились двое охранников — догов и тонконогая изящная борзая. К ней тут же метнулся из дальнего угла камеры низенький косматый человек, в когда-то нарядной, а теперь грязной и разлохмаченной попонке. Он встал на колени, пустил слезу и ударил себя кулаком в грудь, виновато понурив голову.
Борзая что-то протявкала охране и погладила его по нечёсаной гриве. Он благодарно лизнул её лапу языком.
Охранники о чём-то заспорили с ней. Она, как говорится, оборзев, визжа, показывала на цифры, выбитые на ошейнике косматого пленника. Затем, вздохнув, вынула из элегантного кошеля, висевшего у неё на витом поясе, две блестящие монетки. Они молниеносно исчезли в мохнатых лапах догов. На прощание один из них дал такого пинка космачу, что тот вылетел за дверь.