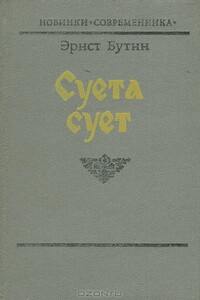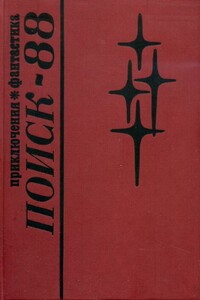— Самое же удивительное, — продолжал изрекать Владька, откидывая назад голову, чтобы размять затекшую шею, — это разница в реакции после того, как достигнут результат. Мы, технари, физики, счастливы, мы испытываем страшный подъем сил, а вы — я читал о психологии творчества — опустошены, выпотрошены. И это естественно. Ведь ваши выдуманные герои были для вас живыми людьми. Их беды, радости, огорчения были вашими бедами, радостями, огорчениями; вы умирали и воскресали вместе с персонажами. Но вот поставлена последняя точка. Все! Ваши фантомы ушли, и с ними ушла часть жизни. И стало пусто, одиноко, верно? Ты испытал это, когда закончил роман?
Юрий Иванович, думая о другом, медленно кивнул. Он, не мигая, глядел на жидкое пятно света, которое, не удаляясь, скользило, переливалось на черном, слившемся с чернотой вечера, асфальте, а видел Генку Сазонова, единственного своего школьного друга, худощавого, кадыкастого парнишку с пшеничным казачьим чубом, и не мог представить его солидным исполкомовцем; не мог представить обабившейся Лидку Матофонову, веснушчатую, тонкошеюю, с наивными, всегда вытаращенными зелеными глазами; не мог представить за прилавком Лариску Божицкую и усмехнулся, вспомнив, каким неуклюжим, косноязычным, тупым становился когда-то рядом с ней. А вот разбитного Витьку Лазарева, аккордеониста и двоечника, взрослым представил легко, но тут же вздохнул: вспомнил, что тот погиб. И сразу же, как подумал о смерти, увидел учителя математики — жилистого, высокого, с красивым нервным лицом; вспомнил, как вместе играли в баскетбол и волейбол и как мгновенно вспыхивала улыбка на лице Синуса при удачном броске или ударе, как болезненно морщился он, чуть ли не стонал, при промахе.
— Хорошо умер Синус, — громко сказал Юрий Иванович. — Мне бы такую смерть.
Владька оборвал свои рассуждения о какой-то экстраполяции образа из будущего в настоящее. Коротко и удивленно глянул на пассажира.
— Ты случайно не декадент? — засмеялся натянуто. — Нашел о чем думать.
— А ты разве об этом не думал? — резко спросил Юрий Иванович,
— О смерти-то? Нет, не думал, — беззаботно ответил Владька, но сразу торопливо поправился: — Раньше иногда приходили всякие мысли в голову, а сейчас — нет. Некогда об этом думать… Мы люди сухие, рацио, так сказать. Расчеты, формулы, опыты, опыты, формулы, расчеты. Нам не до этих душевных сложностей, не до гамлетовских «быть или не быть», — тон у него был насмешливый, нарочито шутовской. Юрий Иванович поморщился, и Владька заметил это. Помолчал, добавил серьезно: — Иногда, конечно, навалятся неприятности, неудачи. Бьешься, бьешься и — тупик. Хоть в петлю лезь, но, — и снова засмеялся, — не лезем. Потому что минусы жизни, неудачи неизбежны. Заложены изначально в самую оптимальную модель бытия человека, чтобы были борьба и преодоление, а значит, и развитие, движение вперед. Вот почему негативное, отрицательное, на мой взгляд, запрограммировано уже генетически…
— Вот как! — удивился Юрий Иванович. Развернулся боком. — Лихая теорийка. Неудачи, значит, запрограммированы, — он угрожающе засопел. — А удачи? Удачи запрограммированы? Или их надо подстерегать и хватать за шкирку? — И, словно цапнув что-то в воздухе, сжал пальцы, сунул руку под нос приятелю.
— Не понимаю, — Владька отвел голову от огромного волосатого кулака.
— Не понима-аешь, — презрительно протянул Юрий Иванович. Откинулся на сиденье, закрыл глаза. — Что один — неудачник, другой — счастливчик — это тоже запрограммировано, заложено с младых ногтей? Вот ты, к примеру, доктор наук, профессор, а Лариска — продавщица, Генка — чиновник. Это как же, а? — приоткрыл глаз, посмотрел пытливо.
Владька обиделся было, нахохлился. Поднял недоуменно плечи и застыл в такой позе.
— Не знаю, не думал об этом, — вяло начал он, — Наверно, каждый выбирал то, что ему нравилось, чего душа требовала, — и оживился: — Конечно, так оно и есть. Лариске хотелось быть первой красавицей, она любила тряпки, побрякушки. Генка — вечный активист — то звеньевой, то председатель совета отряда, то еще какой-то общественный начальник. С чего ты взял, что они неудачники? Может, им ничего другого и не надо, может, они довольны и собой, и жизнью. Ведь ты-то живешь… — помялся, подбирая слово, — спартански, как Диоген в бочке, и счастлив. Не захочешь, я думаю, ни с Генкой, ни со мной местами поменяться? — он обрадовался, что так удачно ответил, посмотрел торжествующе на пассажира.