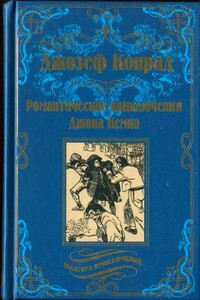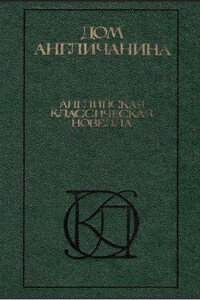Лучше б, конечно, он этого не делал. Необъяснимым образом в поседевшем уже человеке все еще живо мальчишеское отвращение к этому поступку. Я не в силах этому противостоять. И все же, коли выбора у него не было, давайте будем снисходительны и вспомним, что собаку он съел в боевых условиях, достойно перенося тяжести величайшего военного бедствия новейшей истории. В каком-то смысле он сделал это во имя своей родины. Он съел собаку, чтобы утолить голод, в этом нет сомнений. Но он съел ее также и повинуясь патриотическому устремлению, в пылу глубокой веры, что все еще жива, в погоне за великой иллюзией, которую подобно ложному сигнальному огню возжег великий человек, тем самым заведя в тупик целый народ.
Pro patria!
В таком свете собака может показаться вкуснейшим и достойнейшим блюдом.
А мой рацион из la vache enragée – сколь экстравагантным, столь и бессмысленным чревоугодием. Чего ради мне, сыну земли, которую такие мужи возделывали плугами и орошали кровью, пускаться за солониной и сухарями – немыслимой здесь снедью морских равнин? Как ни крути, вопрос этот остается без ответа. Увы! Убежден, что найдутся поборники безукоризненной нравственности, готовые процедить презрительно: «Дезертир». И тогда привкус невинного приключения вполне может показаться горьким. В мире, где ни одно объяснение не является окончательным, оценивая поведение человека, следует понимать, что в нем всегда есть место необъяснимому. Не стоит всуе обвинять в предательстве. Внешность нашей бренной жизни обманчива, как и все, о чем мы судим, опираясь на наши несовершенные чувства. И только внутренний голос в скрытой от всех беседе может говорить вполне искренне. Верность определенной традиции можно проследить и в несвязанных с этой традицией обстоятельствах, к которым в свою очередь привел необъяснимый порыв.
Объяснять глубокую диффузию противоречий человеческой натуры, которая порой заставляет саму любовь рядиться предательством, было бы слишком долго. А пожалуй что и невозможно. Снисходительность, как было сказано, – самая разумная из всех добродетелей. Рискну предположить, что эта же добродетель встречается реже других, если не реже всех. Я не хочу сказать, что люди глупы. Вовсе нет. Цирюльник и священник, при поддержке всей деревни, справедливо осудили поведение хитроумного идальго, который, покинув родные места, разбил копьем голову погонщика мулов, разметал стадо безобидных овец, а также имел весьма прискорбный опыт на скотном дворе. Да не допустит Господь, чтобы недостойный простолюдин избежал заслуженного порицания путем привязывания к стремени благородного кабальеро, чьи фантазии были в высшей степени благородными и бескорыстными, способными лишь возбуждать в простых смертных зависть. Но в обаянии этого возвышенного и опасного персонажа есть и другие моменты. Он не лишен слабостей. Прочитав множество романов, он наивно решил убежать из непереносимой реальности. Он желал встретиться лицом к лицу с исполином Брандабарбараном, повелителем Аравии, чье оружие было сделано из кожи дракона, а щит на руке служил когда-то воротами храма. О, милая и естественная слабость! О, благословенная наивность мягких и бесхитростных сердец! Кто бы не поддался столь утешительному искушению? И все-таки, потакая своим слабостям, хитроумный идальго из Ла-Манчи не был хорошим гражданином. Священник и цирюльник осуждали его не так уж безосновательно. Я не стану повторять за королем Луи-Филиппом, который, оказавшись в изгнании, изрек: «Народ никогда не виноват», – однако можно признать, что в общем мнении всей деревни есть доля правды. Безумец! Безумец! Тот, что в благочестивом размышлении бдел над оружием у колодца на постоялом дворе, что на рассвете стоял коленопреклоненный перед хозяином гостиницы – толстым жуликом, который посвящал его в рыцари, он – приблизился вплотную к совершенству. Он несется дальше, его голова окружена нимбом – святой покровитель всех погубленных или спасенных неотразимой силой воображения. Но хорошим гражданином он не был.
Вероятно, именно это и не что иное подразумевал мой наставник в своем памятном восклицании.