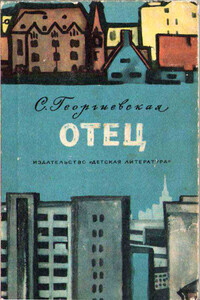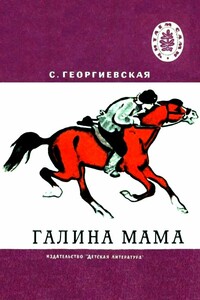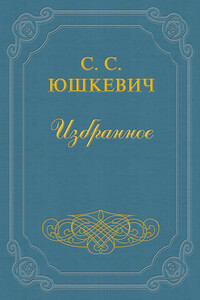— Эко ты, дочка, дешево ценишь жизнь.
— Да. Дешево… Но я завещаю, чтобы меня кремировали, а пепел развеяли над сосновым бором. Запомнил?
— Костырик, слыхал, до чего умна?! Самая вредная изо всех из моих детей! Ну?! А как же с этим… с «Зеленою бородой»? — подмигнул он дочери с высоты стремянки. — Мне, что ли, прикажешь с тобой пойти, а то как бы твоим пеплом не пришлось удобрять леса?
— При чем тут ты? — пожав плечами, ответила дочь. — Я просто делюсь, вот и все!.. Зойку жаль… Потому что Зойкина мать — садистка.
— Зря не побьют. Это будьте спокойны. Небось знала, за что побила. Мать! Не чужой человек.
— Папа, ты так говоришь, как будто бы избиваешь нас каждый день.
— Не надо — не бью. Надо будет — так излупцую, как Сидорову козу, — рассеянно и певуче ответил Иван Иванович. — А сеанс-то какой?.. В часу, говорю, котором?
— В девять тридцать.
— Может, Сева пойдет на эту, как его… «Синюю бороду»? Пойдешь, что ли?
— Да что вы! Некогда. Большое спасибо. Как-нибудь в другой раз.
— Ладно, будет тебе… Всей работы все равно не переработаешь.
Сева молчал.
— Пойдет, Кируша. Что ж так… Нельзя, чтобы каждый день до самой, до поздней ночи.
— Как хотите, Иван Иваныч.
— Зачем ты его заставляешь, папа? Ведь ему совершенно не интересно!
— Что-о-о?! Тебе интересно, а Всеволоду неинтересно? Да ты понимаешь, что говоришь?
— Если б ты знал, как трудно было достать билеты. Как много желающих! До начала сеанса еще два часа с четвертью. Я кого-нибудь вызвоню!
— Что-о-о?
— Хорошо бы… А то я и переодеться-то не успею. Неудобно в рабочих брюках и куртке.
— Да будет, будет тебе, Костырик, — огорчился Иван Иваныч. — Приоденешься как-нибудь в другой раз… Все гуляют, а ты работать?.. Весна! Гуляй. Я смолоду, как бы это выразить… Я вроде бы поэнергичней был. Мы хорошо гуляли. Красиво гуляли. А на нее ты внимания не обращай. Она ж не со зла. Просто набалована до невозможности. Да и какой тебе оппонент — школьник?
Сделав великое одолжение Иван Иванычу и согласившись пойти в кино с его дочкой, Сева съездил домой и переоделся: отутюжил единственную пару выходных брюк, начистил полуботинки (еще вполне элегантные, современной формы, с туповатыми и вместе вытянутыми носами), надел импортный пиджачок.
Когда он вернулся к Зиновьевым, Иван Иваныч уже по третьему разу обрабатывал стены над чешским кафелем.
— Учитель! Вот кнопки… Для детской. Гляньте! По-моему — блеск.
— Ого-о-о! А где ты такими разжился?
— На заводе у бати. Да и много ли надо для детской? Штук тридцать-сорок — у них небольшая дверь.
— Не знаешь моих бандитов. Обивать будем с двух сторон, иначе не достигнуть звуковой изоляции.
Замолчали.
Отвернувшись от Севы, Зиновьев энергично орудовал щетками.
И вдруг щетки в руках Зиновьева на минуту остановились.
— Сева, а может, для стен светло?.. Светловато, а? Да ладно! Кухня — не филармония.
Скрипнула дверь, вошла Кира.
— Отец! У меня немыслимо болит голова.
— То есть как это так «немыслимо»? Может, простыла? Ну так легла бы, сказала матери.
— Нет. Не стану ее волновать. Сева! Привет. То есть, извините, пожалуйста, добрый вечер. Я все перепутала, перепутала… Так болит голова!
Ее лицо искривилось, изображая боль. (Стало похоже, будто не Кира, а Сева купил билеты и долго-долго ее упрашивал… И она с трудом согласилась, что называется — снизошла, а теперь колеблется… Но отказать, если ты уже обещал, невежливо, нехорошо!.. Правда?)
— Ну что ж… Я охотно пойду один. Отдыхайте, Кира. Хорошо бы, знаете ли, выпить малинки и пропотеть.
— Я не пью малинок… И не потею!..
— А что вы пьете, когда простужаетесь? Самогон?
— Да вы не сердитесь! Не надо… — И шепотом: — Не в моих привычках ранить людей. Всем нужны тепло, доброта.
— Ха-ха-ха! — глядя в лицо этой лгунье и фарисейке, не удержавшись, захохотал Костырик.
— Ну как?.. Прошла там у вас голова, что ли? — спросил из кухни Зиновьев.
— Не совсем, папа. Попробую погулять.
Когда оба они, не глядя один на другого, спускались с лестницы, навстречу им поднялась девочка. Белокурая, толстощекая…
— Здравствуй, Кирок!
— Зойка, ты, как всегда, опаздываешь. Я уже отдала билет…