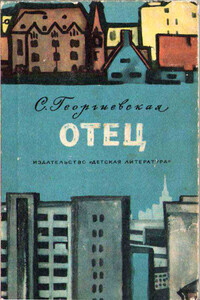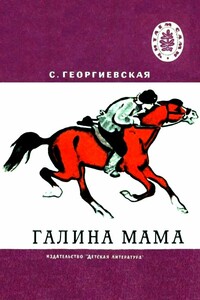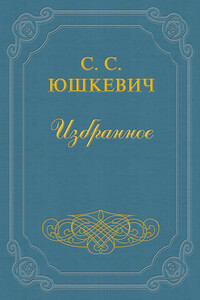— Ну допустим… И что?
— А то, дорогой, что я бы хотела учиться дальше. Ты тоже этого очень хотел. Я просила тебя, умоляла, помнишь? — «поговори с профессором!» Ты не вник… Но ведь другие просят ради детей… И вот мне занизили все оценки… Но самое обидное — что по русскому письменному… Все знают, что у меня по русскому только пятерки, всегда пятерки!.. (Кира врала так страстно, так самозабвенно, что сама поверила в свою ложь.)
Она держала экзамен! Она провалилась!
Виновата во всем была англичанка… Если б тогда — за обморок англичанка поставила ей пятерку…
Одним словом, она отхватила бы серебряную медаль.
Серебряная медаль, серебряная медаль… Ну не обидно ли?.. Кира вдруг зарыдала.
— Что ж плакать-то? Наберешь свой балл на будущий год… Поступишь на курсы по подготовке.
— Отец! За что мне это? — всхлипывала она. — Ты почему-то воображаешь, что в будущем году справедливости будет больше… У ребят — протекции. У ребят — связи!.. А я… А я…
— То-то гляжу, — вздохнув, сказала Мария Ивановна, — она как в воду опущенная… Колобродить и то перестала, поверишь, отец?
— Не могу же я из-за папиной фанаберии, из-за папиных убеждений… {Кира захлебывалась.)
— Ближе к делу, — сказал отец. — Чего надумала? Излагай.
— Папа! В Лауренсе идут дополнительные экзамены. У них недобор.
— То есть как это — недобор? Нынче нет недоборов в университетах.
— А я все же хочу попробовать!.. Может, примут на… русское отделение.
— Что ж, — подумав, ответил Зиновьев. — Спрос — не грех… Тем более что год у тебя все равно пропал… А все же поступила бы раньше, дочка, а уж потом бы стриглась на ихний лад… Уф! Глядеть не могу…
— Папа, разве это так уж существенно?
— А тебя, погляжу, заело?.. Ты словно переродилась… Зойка, подруга твоя, поступила, что ли?
— Все поступили. У всех был блат.
— Ну уж это, дочка, сомнительно.
И вдруг в разговор вмешалась Мария Ивановна.
— Да что ж такое вы затеваете? Люди — в Москву, из Африки, а наша — москвичка! — в какой-то Лауренс… Плохо ли ей в родительском доме?! Опамятуйтесь… Сыта, обута, одета, обласкана…
— Не в том дело, мать, что сыта, — усмехнулся Зиновьев. — Она стремится к образованию. Да и не ей ли его получить! Ведь она у нас головастая… Пусть держит экзамен в Лауренсе, а потом, глядишь, и переведется, поскольку здесь у нее родители. Но ты хотела, Кира, эту, как ее… «дефектологию»? Есть в твоем Лауренсе «дефектология?»
— Нету. Но мне бы пока хоть выдержать на педагогический. Там видно будет… Скажу, что вы многодетные… Переведут.
Готовя на кухне, Мария Ивановна время от времени обращалась к конфорке:
— Мы ли тебя не холили, мы ли тебя не жалели!
— Перестань, мама… Что ты голосишь надо мною, как над покойником!
— Росла и цвела ты, — продолжала Мария Ивановна, обращаясь к конфорке, — как королевна…
— Мама, перестань меня отпевать.
И вот уж обе они сидят обнявшись на табуретке и тихо раскачиваются. Мать поглядит на Киру — и снова плакать.
Интермедия с конфоркой длилась до самого Кириного отъезда.
Весь ее багаж состоял из небольшого модного чемодана и отцовской гитары.
Кешка, чувствуя себя одним из старших членов семьи [теперь среди детей он и был самый старший — ведь так?) пристроил на верхней полке ее чемодан.
— Мама — Сашенька!.. Ты обещаешь, мама?.. Кешка — Саша!..
— Отстань. У нас, может быть, тоже есть нервы, — ответил Кеша.
Поезд тронулся.
Кира увидела приподнявшееся к окну лицо матери. Глаза ее, повернутые в сторону удалявшегося вагона, расширились. Вскинулась рука, лицо матери дрогнуло… она улыбнулась.
— Мама, — сказала Кира, прижимая губы к стеклу окна.
А поезд все шел и шел, набирая скорость.
Потянулись крыши привокзальных строений. Гравий за полотном железной дороги. Московские камешки. И московская пыль. И гарь. И дымы…