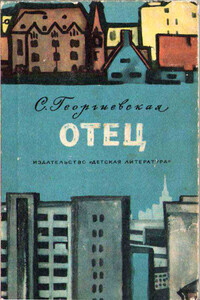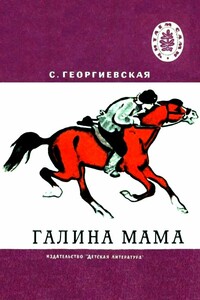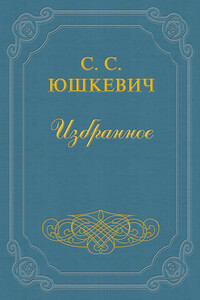— Да, да… Действительно. Она вроде справлялась. Кира присела к столу.
— Знаете, Сева, мы в воскресенье всем классом ездили за город. Сплотили плот и вниз — по реке… Блеск.
Он продолжал смиренно пить чай, не поднимая на нее глаз.
— А гулять как хочется!.. А погода какая чудесная-расчудесная, — тихо сказала Кира.
Сева молчал.
Она уронила локоть на стол, прижалась щекой к опрокинутой тонкой голой руке… Из щелки глянули на него глаза — искрившиеся и вместе доверчивые, смеющиеся и простодушные.
— А я все знаю. Вы едете в лагерь. (Она вздохнула.) Мне папа сказал.
— Ага. Через три недели.
— А гулять как хочется… Сегодня мы целый день занимались. Скоро опять экзамены. Папка, если я умру, не забудь мне в гроб положить книгу.
— Скажешь тоже, — умилился Иван Иванович.
— Когда будете уходить. Сева, — вставая и потягиваясь, сказала она, — пожалуйста, кликните по дороге: я провожу. Хочется хоть немного подышать воздухом.
— Ага. Обязательно.
Ленивым шагом вышла она из кухни. Это была походка усталого человека. Человека, подкошенного экзаменами.
Среди шепотков, молчаний, среди миллионов и миллионов людей (каждому известно, что население Москвы — оно многомиллионное) шагают пары.
Среди пар, соединяющихся и расстающихся; среди пар пожилых супругов; школьников; рабочих; студентов; спортсменов; среди пар и не слыхавших о влюбленности; среди пар, изобретших влюбленность; среди пар, постигших, что значит дружба; среди пар, усвоивших нынче вечером (именно нынче вечером!), что и дружба вечною не бывает, шагают (видите?.. Нет?.. А вы поглядите!) — это они!
— …Я ждала, ждала. Я всю ночь в тот раз проревела. А ты даже не помнишь… Забыл, что мы целовались!
Молчание.
— Ну что ж, ну что ж… Все вы, ребята, одним миром мазаны.
— Между прочим, Кира… откуда у тебя эта отвратительная привычка — не здороваться с человеком?
— Не знаю… Иногда я словно какая-то сумасшедшая. Как будто бы меня нет.
— До того вырождаешься, что забываешь такие слова, как «здравствуй» и «до свидания»?
— Севка, брось!.. Я хотела тебе рассказать, пока не забыла… Помнишь Зойку?
— И далась же тебе эта Зойка!
— И вовсе она не «эта»… Я Зойку люблю и ею горжусь. Погоди, погоди… В общем, когда мы были в седьмом, нам задали Евгения Онегина. И она написала, что это произведение нереалистическое, потому что по настоящей правде активная роль в любви принадлежит самцу.
Он остановился и захохотал. Хохотал так громко, так искренне, что все на него оглядывались.
— Что с тобой. Ты с ума сошел?
— Извини. Минутку. Ха-ха-ха-ха!..
Широко раскрыв глаза, она озабоченно наклонилась к нему. И он ее бегло и быстро поцеловал.
— Да ты что? Посредине улицы?.. На глазах у народа?.. Какой ты… циничный, циничный!
— Прости, Кирок… В самом деле это нехорошо.
Она зажмурилась и, прикрывая лицо, побежала прочь…
Бодро мчались они вдоль улицы.
Выбившись из сил, она ворвалась в чужой подъезд. Остановилась, раздавленная. Якобы подкошенная стыдом.
Помолчали.
— Поклянись, что больше ты никогда, никогда, никогда… Что это было в последний раз?
— Клянусь! Если хочешь — пожую землю.
Она сделала над собой усилие и расплакалась. У доброго малого сжалось сердце. Он принялся целовать ее плачущие глаза, платье, руки; гладил Кирины брови, влажные щеки.
— Но ты же клялся… Клялся! Ты землю ел…
— Да. Но что же мне делать, если активная роль…
…Пустынными стали улицы. Тут и там раздавались чьи-то шаги, такие отчетливые в тишине городской ночи…
Солдаты, несшие караул у Ленинского Мавзолея, стояли недвижные, бессменные, как мгновения, — ибо время движется, солдаты сменяются, но неизменны мгновения во времени: в каждых сутках — часы; а в месяцах — сутки; а год — дробится на месяцы… Такова жизнь.
Дробятся темные воды Москвы-реки… Погасло одно окно, четыре, шесть, десять… Редкими стали световые дробящиеся дороги.
Ночь. На смену ей, как оно и положено, грядет утро.
— Сева, я пить хочу.
— Здесь, Кирилл, понимаешь ли, где-то близко был автомат. Вот! Погоди, у меня в кармане есть мелочишка.
Они пили воду с сиропом и без сиропа. Они чокались и, сталкиваясь носами, пили одновременно из одного стакана.