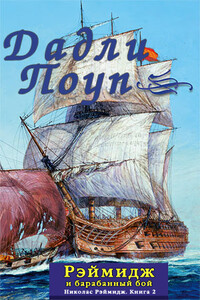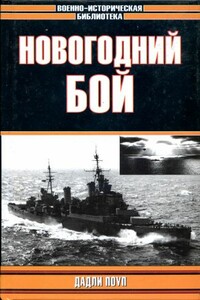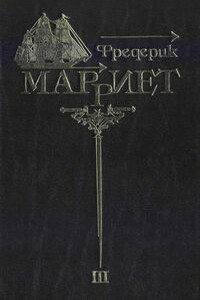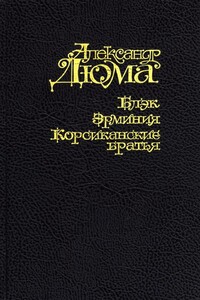— Пять футов, сэр.
Мелело быстро, и до пляжа оставалось, видимо, не более пятидесяти ярдов. Цикады давали обычный ночной концерт, звучавший как тиканье миллионов часов, время от времени контрапунктом в него врывалось резкое кваканье лягушки, словно жалующейся на засилье насекомых. Вдали на берегу слышалось грозное хрюканье — это дикий кабан искал себе пропитание под сенью сосен и пробковых дубов.
Где же эта проклятая Башня? Узкая полоска пляжа просматривалась прекрасно, можно было различить и находящиеся за ней дюны, по вершинам которых темным кантом вились заросли можжевельника и горных роз, а также ковер растений, состоявших из тысяч коротких пальцевидных отростков — как его называют? Какое-то странное название — fico degli Ottentoti — палец готтентота.
«Мальчик мой, — сказала ему мать, когда он был еще совсем юным, — когда-нибудь ты вернешься сюда, и к тому времени станешь взрослым, достаточно взрослым для того, чтобы понять и судить эту страну». Теперь это время пришло. Конечно, суждения его матери принадлежали женщине, относящейся к семье, в течение многих веков пользовавшейся властью и влиянием, и имевшей друзей среди представителей лучших родов Италии, которые были убеждены, что эти полусумасшедшие побочные отпрыски Габсбургов и Бурбонов, дегенераты и выскочки, узурпировали их власть и попирают их законные права. А хлынувшая вслед за ними в страну испанская и австрийская знать получает владения, которые по праву должны принадлежать итальянцам. Бывало, что их земли короли жаловали родственникам своих фавориток. Что еще хуже, им приходилось видеть, как их имения или владения церкви попадали в лапы папских князьков — этих незаконнорожденных отпрысков, прижитых папами в нарушение священного обета безбрачия, которые росчерком пера «святейшего» отца наделялись огромными поместьями. Знать, рожденная в преступной похоти и богатеющая благодаря коррупции.
Впрочем, эти мысли не имеют отношения к делу — они лишь отзвук, эхо суждений его матери, которые она часто, и в довольно резкой форме высказывала. Он не брался судить, справедливы они или нет, однако его мать и леди Роддем, ее подруга, славились своими смелыми передовыми взглядами, за что их недруги приклеили им ярлык «республиканок».
К черту передовые взгляды, скомандовал себе Рэймидж, как далеко мы сейчас от Башни? И вдруг совсем рядом, бледно мерцая в свете луны, перед ним обрисовался мощный квадрат солидной каменной кладки, наполовину скрытый за песчаными дюнами. Как же он не замечал его раньше? Рэймидж понял, что искал что-то темное, скрытое в тени, не принимая в расчет, какой эффект может дать свет луны. Проклятье! Если на вершине башни у французов находится хотя бы полусонный часовой и пара орудий…
Он повернул румпель, взяв курс на юг, параллельно берегу. Сейчас они были крайне уязвимы, даже для пистолетного выстрела, так что лейтенант спешил разыскать устье реки, чтобы без промедления укрыться в нем. И вдруг Рэймидж увидел короткую широкую полосу, пересекавшую пляж. Она напоминала серебристый ковер, расстеленный на песке — это была река в отражении лунного света. Не теряя ни секунды, он направил шлюпку к ней.
— Джексон, глубина? — воскликнул он, умеряя голос.
— Сажень, сэр… пять футов, четыре… четыре…
Проклятье, мелеет слишком быстро…
— Продолжайте промеры!
— Четыре фута… четыре… три…
Черт, они вот-вот коснутся дна, а до берега еще добрых тридцать ярдов — далеко, чтобы тащить шлюпку. Рэймидж видел, что Джексон орудует лотом, как мальчишка, ловящий рыбу с мола — забрасывать его не было ни места, ни времени.
— Четыре фута… четыре…пять…четыре… пять… сажень, сэр.
Рэймидж вздохнул с облегчением — им удалось перевалить через песчаную отмель, идущую вдоль пляжа. Еще ярдов двадцать, и они войдут в устье реки, которое, казалось, становилось уже по мере приближения к нему. Учитывая песчаный характер берега, вход в реку наверняка перегорожен банкой.
— Четыре фута, сэр… Три фута…
Вот и устье.
— Три фута… три фута, сэр.
Оставшиеся несколько ярдов шлюпку можно провести на руках. Он почти уже отдал морякам приказ спрыгнуть за борта гички, когда вспомнил об опасных