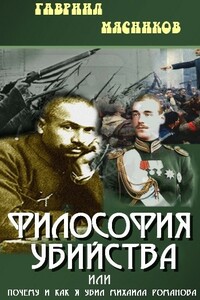Тем не менее, существует мнение, что подписание Брест-Литовского договора явилось началом конца или даже концом большевиков как пролетарской партии, обозначив их фактический отказ от курса на мировую революции (См.: Sabatier G. Brest-Litovsk, coup d'arret a la revolution. P.). Co своей стороны, наиболее яростные противники договора, левые коммунисты, — группа, сформировавшаяся вокруг Бухарина, Пятакова, Осинского и других — были склонны рассматривать подписание Советской властью этого крайне невыгодного «мирного» договора с хищным германским империализмом, вместо ведения «революционной войны» против него, как отступление от основополагающих принципов. Их взгляды сближались с позицией Розы Люксембург, хотя она опасалась в первую очередь того, что подписание договора может затормозить развитие революции в Германии и на Западе.
Как бы то ни было, простое сравнение Брест-Литовского договора 1918 г. с Рапалльским договором, подписанным четырьмя годами позже, обнаруживает радикальные перемены в ориентациях Советского государства: если в первом случае имело место сознательное временное отступление под давлением крайне неблагоприятных обстоятельств, то во втором мы видим настоящую торговлю принципами, проложившую путь к вступлению Советской России в мировой клуб капиталистических государств. В первом случае вопрос о заключении мира с Германией был предметом широкой дискуссии в партии и Советах; никто не пытался скрыть настоящее содержание договора, те грабительские условия, которые навязывали германские империалисты; общие рамки той дискуссии были заданы интересами мировой революции, а не «национальными интересами» России. Рапалльский договор, напротив, был тайным, и его условия включали даже поставку Советской Россией оружия для германской армии, т. е. того самого оружия, которое в 1923 г. будет использовано против немецких рабочих в целях защиты капитализма.
Полемика о Брестском мире была в основном сфокусирована на стратегических вопросах: располагает ли Советская власть, установившаяся в стране, к тому времени уже основательно истощенной четырехлетней империалистической бойней, экономическими и военными ресурсами для того, чтобы немедленно начать «революционную войну» (пусть даже войну партизанскую, за которую, по-видимому, ратовали Бухарин и другие левые коммунисты) против Германии? И второе: не отсрочит ли заключение мира революцию в Германии вследствие того, что мирный договор с империалистами будет воспринят мировым пролетариатом как капитуляцию, а германский империализм укрепит свои позиции, получив доступ к жизненно важным ресурсам на Востоке? Нам, как и группе «Билан» в 1930-х гг., представляется, что по обоим пунктам прав был Ленин: Советская власть нуждалась в передышке для перегруппировки сил — но не ради развития своей «национальной» государственности, а потому, что это позволило бы принести делу мировой революции гораздо больше пользы, чем героическое поражение в «революционной войне» (вспомним о решающей роли Советской России в основании Третьего Интернационала в 1919 г.).
Более того, есть основания утверждать, что подписание Брест-Литовского договора нисколько не отсрочило революционный взрыв в Германии, а даже ускорило: освободившись от Восточного фронта, германский империализм предпринял новое наступление на Западе, что в свою очередь вызвало бунты в армии и на флоте, с которых и началась германская революция в ноябре 1918 г.
Если можно вывести какие-то принципиальные уроки из ситуации вокруг Брест-Литовска, то это хорошо сделала группа «Билан»:
«Взгляды руководимой Бухариным фракции, согласно которым функция пролетарского государства состоит в том, чтобы освободить рабочих других стран посредством „революционной войны“, противоречат самой сути пролетарской революции и исторической миссии пролетариата».
В отличие от буржуазной революции, которую, действительно, можно экспортировать путем военной экспансии, пролетарская революция основана на сознательной борьбе пролетариата каждой страны против собственной буржуазии: «Победа пролетарского государства над капиталистическим государством (в территориальном смысле) ни в коем случае не означает победу мировой революции» (Parti-Etat-Internationale: L'Etat proletarien//Bilan, № 18, April-May 1935). К тому времени правильность данной позиции уже была подтверждена практикой: в 1920 году попытка экспортировать революцию в Польшу на штыках Красной армии закончилась катастрофическим поражением.