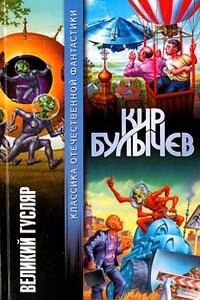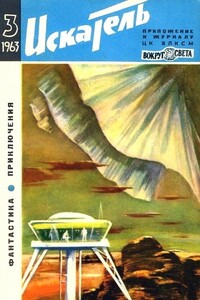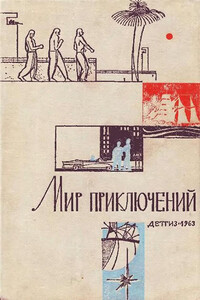Сообщение с «Дау», эти семьсот сорок метров засвеченной пленки, я получил после того, как был проделан комплекс обычных реставрационных процессов. Уже тогда можно было — хотя и в самых общих чертах разобраться в некоторых снимках. Хуже обстояло дело с восстановлением звука — наиболее ценной части сообщения (большинство снимков сделано автоматом, а звукозапись — это сказанное самим Зорохом). Мы быстро исчерпали немногие имеющиеся у нас дополнительные средства реставрации.
Мне оставалось вновь и вновь слушать запись. Работа в высшей степени однообразная: раз за разом прокручивается лента — гул, треск, свист. Варьируешь скорость, громкость, корректируешь тон, подбираешь звукофильтры, и вот сквозь плотную завесу шума прорывается слово. Одно слово, которое чаще всего ничего не дает…
И все-таки нужно расшифровывать наугад десятки, сотни слов. В конце концов находишь ключевые слова и догадываешься, что записано до них или после них. Возникают предположительные фразы, протянутые, как редкий, часто рвущийся пунктир, сквозь всю запись.
Работа требовала тишины. Нужно было неделями жить в тишине, постепенно обострявшей слух. Я перебрался в Забайкалье, в маленькую лабораторию, расположенную на дне заброшенного рудного карьера. Здесь, на километровой глубине, была почти абсолютная тишина.
Террасы карьера, заросшие серебристой травой, круто уходили вверх, и только в полдень где-то в безмерной синей высоте ненадолго появлялось солнце. Место было диковатое и по-своему интересное. Добычу руды прекратили лет сорок назад. Потом карьер долго служил полигоном для испытания подземоходов. В отвесных стенах террас зияли черные дыры уходящих вверх скважин, и на трещиноватом от взрывов дне карьера, среди раздробленных камней, лежали тяжелые корпуса старых машин.
Я почти не знаю, что это такое — подземоходы. Сейчас они не нужны, есть нейтринные анализаторы, легко просвечивающие планету. Я не пытался разобраться: просто ходил, смотрел, иногда с трудом протискивался в крохотные кабины, вспугивая полевок и пищух.
Метрах в двухстах от моей лаборатории из глубокой воронки поднимались металлические руки подземохода. Машины не было видно, она осталась под землей. И только гибкие манипуляторы, пробив узкий ход, дотянулись до поверхности. Они так и застыли, восемь рук подземохода, вытянутые вверх в последнем рывке и намертво вцепившиеся в камни.
По ночам над карьером, задевая красные огни на мачтах ограждения, стремительно летели беловатые облака. Где-то рядом проходила метеорологическая трасса, по которой облака перегоняли в монгольские степи. Ветер блуждал-в лабиринте скважин и беззвучно приносил на дно карьера влажные запахи степных цветов и скошенного сена.
Я быстро привык к тишине. На четвертый день, вслушиваясь в запись, я впервые уловил многократно повторяющуюся фразу. Вначале я даже не старался понять обрывки слов и слушал запись, как музыку.
Еще не расшифровав эту повторяющуюся фразу, я знал: Зорох говорит о чем-то исключительно важном.
Планер долго стоял в центральной части Порта Каменных Бурь. Потом Зорох отправился к границе и проехал вдоль нее километров двести. Планер медленно шел мимо частокола бурых скал, похожих на грубо обтесанные столбы. Часов через пять-шесть планер (все так же медленно) двинулся в обратный путь, к центру Порта.
Судя по снимкам, ничего не произошло. Но Зорох настойчиво повторял какое-то сообщение.
Сейчас трудно сказать, как именно пришла догадка. Однажды ночью облака расступились, растаяли, и над карьером возникло звездное небо. Четкая линия красных сигнальных огней на мачтах ограждения сразу затерялась среди бесчисленных звезд. Тогда, кажется, я и услышал слова «красное смещение».