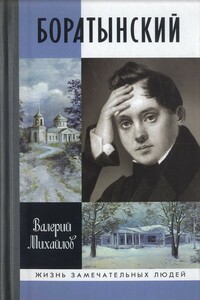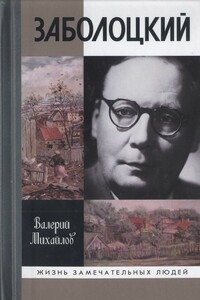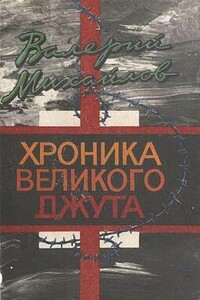Не заменят… но именно земная песня матушки, что напевала она дитяти, вызывает в провидческом предсознании младенца звуки небес, ангельское пение, услышанное некогда душой младой.
В Лермонтове, как ни в ком другом из русских поэтов, небо сошлось с землёй.
Можно только догадываться о том, как это произошло, но итог соединения, соития, сплава невозможно не ощутить: обаяние, магнетизм Лермонтова столь велики, что не тают с годами, река времён словно бы в задумчивости обтекает этот могучий, дышащий тайною жизнью утёс. Теперь, по прошествии двух веков, очевидно, что Лермонтов — непреходящая, неизъяснимой притягательности и глубины тайна русской литературы, русской жизни и русской души.
Сверхчуткий Розанов проницательно заметил: «Материя Лермонтова была высшая, не наша, не земная. Зачатие его было какое-то другое, „не земное“, и, пиша Тамару и Демона, он точно написал нам „грех своей матери“. Вот в чём дело и суть».
Заметим, однако, в скобках: всюду этот несносный интуитивист, Василий Васильевич, лезет со своей ветхозаветной плотскостью.
Пиша о Лермонтове, что за нелепое зачатие приписывает он ему?! До какого ещё «греха матери» дописывается?! Тамара, между прочим, погибает после поцелуя Демона. А уж за матушку свою, Марию Михайловну, поэт вполне мог бы вызвать философа, и хотя вряд ли выстрелил бы в него, но уж подержать на мушке кухенрейтера — подержал бы, дабы отучить от граничащих с оскорблением символов.
Из «Песни ангела» вполне очевидно только одно.
Небо смыкается с землёй в единое целое — вот что по-настоящему живёт в душе человека. Вот оно — содержание Лермонтова, сущность его материи. Не одна лишь человечность, что у других поэтов, — Богочеловечность.
Так, в первом же воспоминании Лермонтова о своей жизни и его поэтическом осмыслении небо сходится с землёй и душа поэта оказывается на томительном перепутье, исхода из которого в земном существовании нет и не может быть.
Вполне по-земному говорит о возникновении этого стихотворения Павел Висковатый, но и в его толковании звучит нечто необъяснимое:
«Чем сильнее удручал поэта разлад жизни, который рано стал им ощущаться вследствие враждебных отношений между отцом и бабушкою, тем более манили его светлые сумерки первого детства, время раннего развития его любящей и верующей души. Он уходил в иной надземный мир, прислушиваясь к звукам,
Которых многие слышат,
Один понимает…
И вот поэт в пылкой своей фантазии представляет себе, какою вышла душа его из горних сфер чистого небесного эфира. Ему всегда были милы и небо, и тучи, и звёзды, — и кажется ему, что, извлечённая из „райских садов“, она заключена в бренное тело для жизни на земле, где и томится смутными воспоминаниями о родине. В одну из минут глубочайшей грусти Лермонтов ещё в 1831 г. пишет стихотворение „Песнь ангела“. Для биографии оно особенно интересно в первоначальном виде:
…Он [ангел] душу младую в объятиях нёс
Для мира печали и слёз,
И звук его песни в душе молодой
Остался без слов, но живой.
Душа поселилась в твореньи земном,
Но чужд ей был мир. Об одном
Она всё мечтала, о звуках святых,
Не помня значения их.
С тех пор непонятным желаньем полна,
Страдала, томилась она.
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.
Нам сдаётся, что это стихотворение хранит в себе основную характеристику музы поэта. Здесь он является самим собою и даёт нам возможность заглянуть в святая святых души своей. Здесь нет и тени того насилования чувств, которое мы порой можем заметить в его произведениях и которым он замаскировывает настоящее своё „я“. Тут нет ни вопля отчаяния, ни гордого сатанинского протеста, ни презрения, ни бешеного чувства ненависти или холодности к людям, которыми он прикрывает глубоко любящее сердце своё. В этом юношеском стихотворении Лермонтов более, нежели где-либо, является чистым романтиком. Неясное стремление романтиков в туманное „там“ или „туда“ у Лермонтова имеет более реальный характер, связуясь с памятью о матери и ясно определяя положение его в „земной юдоли“, т. е. между людьми, их интересами и стремлениями. Он чувствует себя чуждым среди них.