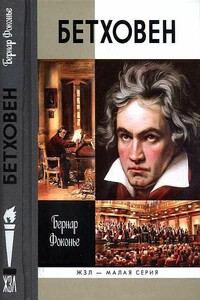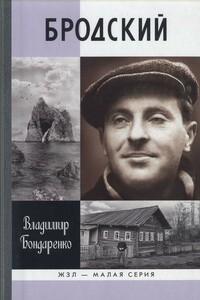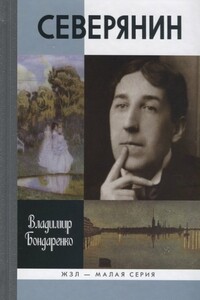Но я без страха жду довременный конец.
Давно пора мне мир увидеть новый…
[62]Он мог использовать ту или иную форму стиха, от ямба до любимого амфибрахия, мог заимствовать какие-то приемы у иных писателей, от Байрона до Пушкина, но в этот взятый напрокат формат он всегда вставлял истинно свое космическое небесное содержание. Только этот бессмертный человек, сидящий в земном человеке Лермонтове, и придавал его поэзии горний дух, возвышался над всеми земными страстями и тяготами.
"Кто близ небес, тот не сражен земным…" — точнее и не скажешь.
Даже в немощную николаевскую эпоху, закономерно закончившуюся крымским поражением в войне, могучий и героический лермонтовский характер был заметен всем. И как же ошибался близкий друг Александра Пушкина, знаменитый ученый, вроде бы знаток искусств, ректор Петербургского университета, академик Петр Александрович Плетнев, когда писал: "О Лермонтове я не хочу говорить потому, что и без меня говорят о нем гораздо более, нежели он того стоит. Это был после Байрона и Пушкина фокусник, который гримасами своими умел толпе напомнить своих предшественников. В толпе стоял Краевский (издатель и один из первых ценителей Лермонтова. — В. Б.). Он раскричался в "Отечественных записках", что вот что-то новее и, следовательно, лучше Байрона и Пушкина. Толпа и пошла за ним взвизгивать то же… Придет время, и о Лермонтове забудут…"
Не забыли и не забудут. Думаю, это был первый, воистину русский поэт. Поэзия Александра Пушкина всегда носила более всемирный, всечеловечный характер. В Михаиле Лермонтове, при всем его изначальном байронизме, более глубоко сидело русское начало. Недаром Ф. Ф. Вигель прозвал его отчаянным русоманом. Но и в русскости своей он был предельно одиноким. Еще бы, единственный из великих поэтов, так и не смирившийся ни с чем: ни с режимом, ни с обществом, ни даже с каноническими постулатами церковников. Он и был, подобно своему новгородскому герою, "последним сыном вольности".
Трудно найти более верующего поэта, чем Михаил Лермонтов, но и к Богу у поэта были свои пути, свои прямые разговоры с ним.
Ценя вольность в себе самом, он и в героях всегда искал вольность, почему и любил воспевать первобытных естественных горцев Хаджи Абрека, Измаил-Бея, Мцыри, пусть и не столь образованных, но уверенных в воле своей, в твердости своей, в правоте дел своих. Таким же бесстрашным и уверенным в себе был его купец Калашников, такими были герои "Бородино". Он и в себе самом не любил "гнета просвещения", столичного лицемерия. И в стихах своих стремился победить свой эгоцентризм, обрести народность.
Так?… в образованном родился я народе;
Язык и золото… вот наш кинжал и яд!
[63]Он как чувствовал, что над сильными цельными личностями верх одержат некие подобия обезьян, Мартышки. Вот одна из них и пристрелила светлого русского гения, другие и до сих пор ехидно проходятся по его поводу. Вряд ли он захотел бы существовать в век Мартышек, лишенных и природной мощи, и первичности чувств, и простых нравственных идеалов.
Как подкосил наш золотой век двух величайших гениев — Пушкина и Лермонтова. Литература после этого надолго замерла. И по сути лермонтовские сверстники — Федор Тютчев или Иван Тургенев заговорили в полный голос уже во второй половине XX века. Не так ли в XX веке после гибели величайших гениев — Сергея Есенина и Владимира Маяковского русская литература приходила в себя тоже целую литературную эпоху. Замечено, что отдает чистой мистикой то, что между смертью поэтов в каждой из этих пар прошло ровно четыре года и четыре месяца…
Но, увы, это не мистика, а жестокая правда. Преждевременная гибель гениев надолго меняет развитие истории той или иной литературы. Иные из малых национальных литератур так и выпадают навсегда из литературного мирового пространства после трагической гибели своих великих творцов.
Поэзия Михаила Лермонтова, вне всякого смыслового содержания, обладает еще и гениальной музыкальностью стиха. Выше даже, чем у Александра Пушкина. Недаром тот же Даниил Андреев заметил: "…иностранцы любой национальности, будь то немец или японец, поляк или араб, заражаются эмоциональным звучанием и признают наличие мировых масштабов не у Пушкина, а у Лермонтова". Не зная русского языка, они чувствуют тончайший мелодичный ритм лермонтовских стихов.