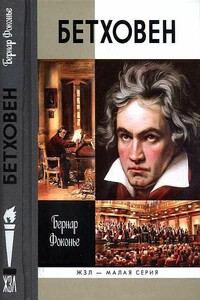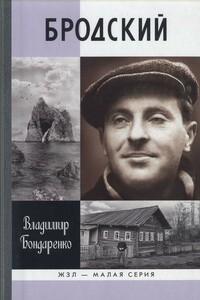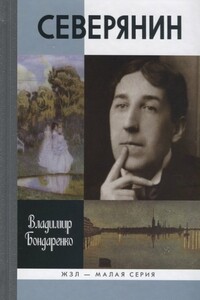Близки к прототипам и герои, а особенно героини романа. Та же Вера — в полном объеме описана Варенька Лопухина. Понятно, почему ее муж сжег все письма и автографы поэта, впрочем, он понимал, что останется уже на века рогоносцем. По сути, Вера в романе и не нужна, там главный образ — княжны Мери, Вера проходит вторым планом, хотя отношения Печорина и Веры описаны намного естественнее и органичнее, нежели отношения Печорина с той же княжной Мери. Там меньше выдумки, разве что прощальное письмо Веры — это то письмо, которого Лермонтов так и не дождался от Варвары Лопухиной.
У княжны Мери есть несколько возможных прототипов, один из них — это сестра Николая Мартынова. Нынче иные лермонтоведы и дуэль объясняют схожестью образов героини романа и реальной сестры Мартынова. Мол, брат обиделся за сестру. Но парадокс в том, что, во-первых, это все под большим сомнением, она ли есть прототип княжны Мери; во-вторых, сама сестра Мартынова с великой радостью до конца дней своих признавалась в своем сходстве с княжной Мери, ей льстило это сходство. Она гордилась им. Знал об этой ее гордости и брат. Николай Мартынов никак не мог вымещать мнимую обиду за сходство на княжну Мери на Михаиле Лермонтове.
Кстати, тогда уж Николай Мартынов, даже обижаясь за схожесть своей сестры и литературной княжны Мери, должен был, читая роман "Герой нашего времени", внимательно прочитать и "Тамань", где подробнейше описано, как слепой мальчик и ундина обворовали Печорина, то бишь самого Лермонтова, унеся у него абсолютно всё, в том числе и пакет с письмом и деньгами для Мартынова. Значит, не было и никаких "вскрытых писем от сестры", что якобы обидело Мартынова. Нельзя одновременно обижаться за схожесть с образом княжны Мери и не замечать в том же романе доказательства подлинности кражи. Не стал бы Михаил Лермонтов ради того, чтобы утаить письмо для сестры от Мартынова, придумывать целую гениальную сцену в "Тамани".
Его прозрение в романе до мелочей собственной дуэли с Грушницким, то бишь с Мартыновым, нельзя не назвать гениальным предвидением событий. Только излишняя самоуверенность Михаила Лермонтова и его же привычная демонстрация якобы присущих ему отрицательных черт характера переиначили описанную в романе дуэль. В книге Печорин хладнокровно и за дело, за явную подлость вызывает на дуэль и убивает Грушницкого. Эх, если бы так же было и в жизни. В жизни и во время своей первой дуэли с Эрнестом де Барантом, и во время второй дуэли с Мартыновым опытнейший стрелок, храбрый командир разведотряда, убивший, небось, не одного черкеса в бою, благородно стреляет в сторону или вверх. А ведь этой своей литературной дуэлью с Грушницким Лермонтов до смерти напугал Мартынова, и тот уже стрелял наповал и из лютой ревности к его гению, и из чувства страха за свою жизнь. Он не хотел оказаться на месте Грушницкого.
Почему, с горечью пишу я, в своем романе автор рукой своего автобиографического героя убивает с презрением Грушницкого, а в жизни Лермонтов отказался в него стрелять? Он, казалось бы, как и его предок Томас Лермонт, всё предвидел и описал заранее то, что случится, но на бумаге Лермонтов спокойно пристреливает своего врага. В жизни он этого сделать не смог. С одной стороны — опытный боец Михаил Лермонтов, с другой стороны — трус, избегавший сражений Николай Мартынов.
Но в жизни именно трусы и подонки доводят свое дело до конца. Они лишены благородства. Я представляю, как трясло Мартынова перед дуэлью, всё время ему вспоминался Грушницкий. Нет, именно из трусости он не мог себе позволить выстрелить вверх. Трус и лжец, он до самой смерти лгал и трусил, понимая, что в истории он все равно останется мерзким убийцей. А Лермонтов, предвидя свою дуэль, в "Герое нашего времени" размышлял:
"Что ж? умереть так умереть! потеря для мира небольшая; да и мне самому порядочно уж скучно. Я — как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова… прощайте!..
Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачем я жил? для какой цели я родился?… А, верно, она существовала, и, верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятные… Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных; из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений — лучший свет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудие казни, я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления… Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил: я любил для себя, для собственного удовольствия: я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их радости и страданья — и никогда не мог насытиться. Так, томимый голодом в изнеможении засыпает и видит перед собой роскошные кушанья и шипучие вина; он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче; но только проснулся — мечта исчезает… остается удвоенный голод и отчаяние!