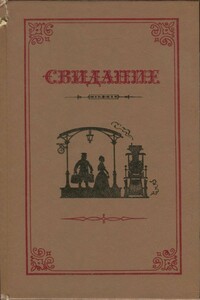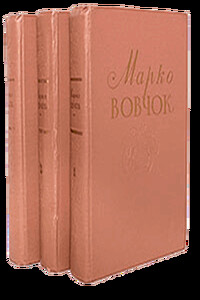И козак вздрогнул, словно меткая стрела впилась ему в сердце.
— Не нравится мой подарок, девушка? — спросил он и горько усмехнулся, и глядел — ждал ответа.
— Мне ничего не надо, — ответила девушка.
— Не слушай ее, — вскрикнула старуха в тревоге, — не слушай, мой сокол! Она не смыслит ничего…
Хотел козак что-то говорить, да дух у него заняло, в голове помутилось, забилось сердце до разрыву — он ушел. И шел, сам не зная куда, пока не очутился над рекою. На него пахнуло свежестью от сверкающих волн, и он остановился бессознательно.
И долго стоял тут козак, глядя в воду, и думал, и крушился, и все любил! И гневался, и тосковал, и все любил! И оскорблялся, и жалел, и все любил! Сильней гнева, тоски, оскорбленья была любовь! Наперекор всему страстная нежность одолевала его, — так что же мудреного, что он, решившись разорвать мучительные отношения, передумавши, перестрадавши, набрался силы и решимости и… и воротился к ней. И ворочаясь, спешил, как на праздник, и когда, подошедши к хате, услыхал ее голос, невыразимо сладко ему было его слышать. Он стал и слушал, точно очарованный. Он слушал не для того, чтобы узнать, о чем речь, — он просто желал голос ее слышать. Редко слыхал он этот голос любимый. Он боялся, чтобы, увидавши его, не замолкла она, и прятался. Вечер был темный — только звезды мерцали на прозрачном небе, и такой теплый, тихий вечер, что даже деревья кругом хаты не шелестели и не мешали ему слушать своим шелестом.
Пока не укротилось биенье его сердца, он ясно ничего не мог ни разобрать, ни понять, а там понемногу и разобрал, и понял. Явственно дребезжали в ушах у него все укоры и угрозы матери за суровость к нему, жениху, за непослушанье, и как до души доходили ответы тихие и неизменные: «Я не люблю его; я не хочу идти за него!» Ох, хоть бы что-нибудь иное сказала она! Хоть бы что-нибудь вымолвила, пожалуй, такое ж нелюбовное, пожалуй, хуже, да иначе! Эти слова и без того день и ночь перед ним, как живые, носятся и жгут, как огонь, и холодят, как лед!
Мать все сердитей становилась; пугает дочь проклятьем; грозит, что отдаст ее силою, перевенчает неволею.
— Вы меня перевенчаете неволею, да душа моя и сердце вольны будут, — промолвила Лемеривна и стала просить: — Не отдавайте меня силою! Не губите меня и его!
Так она просила, что весь задрожал козак и думал, что нельзя не послушать такой просьбы. Но мать не послушалась и осыпала новыми укорами и угрозами непокорную дочь. Козак вошел в хату, и старуха умолкла,
— Что так ушел? Где был, мой голубчик? — спросила она козака. — А мы тебя ждали. Садись, мой сокол, садись, мой желанный!
— Когда же мы будем свадьбу играть? — промолвил козак.
— Да как положили, так и сыграем, — ответила старуха торопливо. — Как положили, так и будет, мой коханый!
— Не слишком ли долгий срок мы положили? Не долго ли чересчур дожидать? — промолвил козак.
— Можно и поспешить, родной мой! — ответила угодливая старуха. — У нас все готово, — можно поспешить!
— Поспешите, будьте ласковы! — промолвил козак.
— Хорошо, хорошо, мой голубчик, — поспешим, — отвечала старуха и сейчас же начала рассчитывать и высчитывать дни и время, расходы и угощенья.
В хате все темнело да темнело; в открытые окошечки врывался запах пышно цветущих цветов в огороде, сильный и смешанный: и свежее благоуханье роз и сирени, и резкий запах любистка и черемухи, и бессчетно других ароматов слабей и слабей, и в одиночку почти не слышных. И едва можно было отличить при мерцанье звезд цвет свежей розы от золотистого чернобривца и цвет алого мака от цвета розового пиона, и едва мог отличить Шкандыбенко белые сложенные руки от широких белых рукавов и бледное любимое лицо от шелковых, гладких, пышных волос. Не сказала ни слова молодая Лемеривна, пока козак говорил с матерью, не шелохнулась, не ворохнулась. И при прощанье только, когда козак промолвил ей: «Добрая ночь!» — она встала, поклонилась и вымолвила: «Добрая ночь!» — ему в ответ.
Простился козак, поехал домой на хутор.
Добрая ночь! Ах, нет для него добрых ночей давно, давно!
С тех пор, как он ее узнал, нет для него добрых ночей! И будут ли когда! Будут ли?