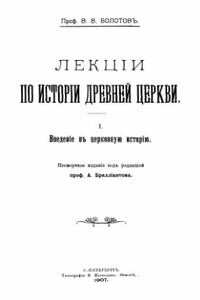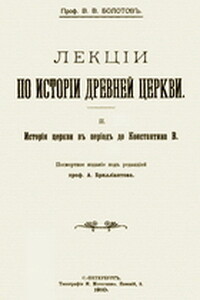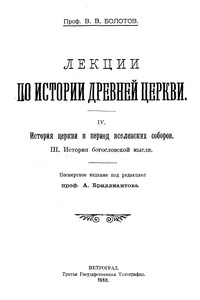Но и в послеираклиевский период церковные люди Византии стояли за старый порядок вещей. Это видно из решения вопроса о кипрской церкви на Трулльском соборе (пр. 39). Кипрская церковь, на основаниях, не совсем твердо обоснованных исторически, на III вселенском соборе получила автокефаль–ность. Петр Монг хотел снова подчинить ее Антиохии, но открытие на острове Кипр мощей св. ап. Варнавы остановило это дело. С 649 г. Кипр завоеван был арабами, и в 690 г. император Юстиниан II приказал кипрским христианам выселиться в Геллеспонт. Явился вопрос: какое положение должна теперь занять кипрская церковь? Трулльский собор решил, что кипрский (т. е. константинопольский или новоюстинианопольский митрополит Кипра) епископ Иоанн первенствует в Геллеспонте, рукополагается своими собственными епископами (бывших кафедр на острове Кипре), и сам кизикский епископ (митрополит Геллеспонта) получает хиротонию от проэдра — епископа кипрского и подчинен ему наравне с другими епископами Геллеспонта. Как долго это практиковалось, трудно сказать, так как епископ Константины возвратился в Кипр, когда он снова был отвоеван греческими войсками.
Сила нового исторического течения брала свое и весьма своеобразно. Если мы возвратимся к Халкидонскому собору, то увидим, что митрополиты оказали содействие к разрушению церковных диэцезов: они согласились, чтоб их посвящали в Константинополе, а не в Кесарии, Ефесе и Ираклии. Три экзархата превратились в нуль и остались только титулами. Но если подчиненные экзархам митрополиты охотно содействовали устранению этой высшей инстанции, то теперь подчиненные митрополитам епископы колеблют митрополитанский строй, стараясь изъять себя из–под зависимости от своего митрополита и стать в непосредственные отношения к патриарху константинопольскому. Это стремление к получению титулярной автокефально–сти со стороны епископов понятно: подчинение власти ближайшей они меняли на зависимость от власти отдаленной.
Легко объяснимо, что на встречу этой тяге шли с сочувствием и в Константинополе. Это расширяло влияние патриарха константинопольского и было для Великой церкви выгодно и в материальном отношении. Доходы от хиротоний были явлением давно известным. Еще на Халкидонском соборе, когда митрополиты выразили свое удовольствие по поводу того, что они, по 28 правилу, будут получать хиротонию не от экзархов, а от константинопольского патриарха, — диссонансом прозвучало замечание митрополита анкирского (в Галатии I) Ев–севия, что за хиротонию у экзархов он не стоит, но просит только, чтобы города не взносили тяжелой платы за хиротонию; так как, если избранные городом рукополагаются не в самом городе собором епархиальных епископов, то взимается разорительная плата (λύονται αϊ ούσίαι). «Я говорю, — прибавил Евсевий, — по опыту, так как заплатил за своего предшественника огромную сумму». Послышались возгласы одного константинопольского пресвитера: «Это воспрещено канонами алтари чисты» Но Евсевий возразил, что об Анатолии он наилучшего мнения, но «никто не бессмертен». Это дело на соборе было закончено предложением Фалассия кесарийско–го — сойтись у Анатолия и составить правила относительно этого. Однако уже в 459 г. преемник Анатолия Геннадий созывает собор против симонии, главным образом имея в виду злоупотребления этого рода в Галатии.
Следующую попытку регулировать доход этого рода мы встречаем в новелле 123 (155) (546 г.) Юстиниана. Из нее мы узнаем, что в то время был твердо установившийся обычай, по которому хиротонисуемый епископ делал пожертвование в пользу церкви хиротонисующего. Юстиниан не воспрещает этого и не смотрит на это, как на симонию, επειδή τοϋτο ουκ εστίν άγορασία, άλλα προσφορά [103], — и конечно прав в этом: продажа (симония) бывает там, где есть покупатель; а в данном случае «приношение» поступало от всякого рукополагаемого, и, следовательно, митрополит был нисколько не заинтересован в том, чтобы рукоположить определенное лицо, а не другого кого–нибудь; это «приношение» не есть покупка так же, как гербовая марка на прошение не есть подкуп судьи. Юстиниан в своей новелле определяет maximum «приношения». «Προσφορά» слагалась их двух взносов: а) «обычного» (έξ εθους, εκ συνήθειας)