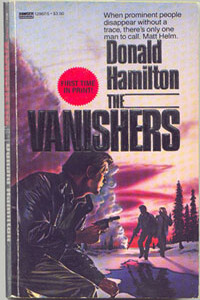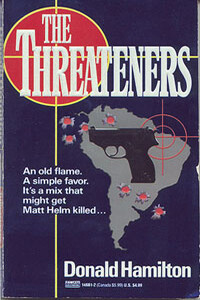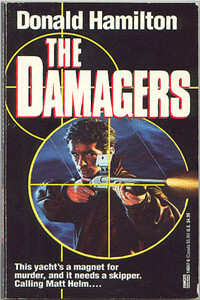— Ты обижаешь меня. — Ходжак укоризненно взглянул на хана, а сам подумал: «Детей нет — аллаха вини, друзей нет — себя».
— Ты не в счет, — поморщился тот от боли. — Вернее тебя человека нет. Когда меня ранили в Каракумах, ты укрыл, выходил меня. Тогда я словно во второй раз родился. Отец тебя тоже ценил.
— Я не один год ходил в начальниках личной охраны Джунаид-хана.
— А я его всегда боялся. Меня до икоты колотило, когда он сестру мою застрелил. Я всегда боялся умереть не своей смертью.
— Да, покойник, земля ему пухом, был крутого нрава.
— У меня такое чувство, что меня убьют. — Эшши-хан разомлел от тепла, хотел еще что-то сказать, но вскрикнул от боли: Ходжак умелым движением вправил коленную чашечку на место.
— Вот и все. — Туго запеленав колено шерстяными обмотками, Ходжак развел в пиале с чаем кусочек мумиё, дал попить больному. — Полежишь завтра спокойно, на другой день по дому тихонько подвигаешься, а через неделю и на коня сможешь сесть. Похромаешь малость, и все пройдет.
На суеверного басмаческого главаря заметно повлиял случай его падения с лошади, но Ходжак, зная натуру Эшши-хана, не очень-то полагался на его постоянство. Доброму коню и одной плети много, дурному — тысячи мало. Даже всемогущему аллаху неведомо, что может взбрести в голову Эшши-хана.
В селение Сидарахт Эшши-хан прибыл через полторы недели. «Падишах», обычно старавшийся держаться со всеми обходительно, встретил своего «полководца» неприветливо, часто доставал из кармана табакерку и закладывал под язык ядовито-зеленый порошок наса. Белобрысый Янсен, верзила Брандт и его адъютант, такой же рыжий, как шеф, ходили словно в воду опущенные. «Поди, бьют их наши на фронте, — подумал Ходжак с радостью, — вот и ходят темнее тучи...»
Не унывал лишь невесть откуда взявшийся Каракурт, видно, чаще обычного принимавший терьяк, которым запасся впрок. С чего ему печалиться? Всех своих агентов он благополучно перебросил за кордон, отстучал Мадеру шифровку, а там хоть трава не расти. Его дело было подобрать и завербовать, а готовили их другие, натаскивая ускоренным методом — на войне некогда возиться. Если они даже чуточку напакостят красным, и то добро.
По утрам Ишан Халифа со своей свитой совершал разведочные вылазки в Тургунди, а затем оврагами подбирался поближе к советской границе и, укрывшись в развалинах старой крепости, что стояла на холме, вел наблюдение за той стороной.
— Кто знает, где тут у них пушки? — бормотал он, не отрывая от глаз цейсовский бинокль. — Где пулеметы, войска?..
— Потерпите недельку, — самоуверенно отвечал Каракурт. — Вернется оттуда мой человек — все узнаем.
— Полмесяца полководца ждали, неделю тебя. Не слишком ли долго?
— А куда торопиться? — Эшши-хан все же опасливо огляделся, увидел Янсена и Брандта, сидевших вдалеке, в открытом окопчике с биноклями в руках. — Сталинград еще не пал. Вот когда возьмут!.. — и с мстительным выражением на лице похлопал себя по груди, где в кармане халата лежал список возмездия, составленный еще под диктовку Джунаид-хана. Такой же список, но дополненный новыми именами туркменских интеллигентов и активистов, хранился и у Ишана Халифы. С ними басмачи собирались расправиться сразу, как только вступят на советскую территорию.
«Падишах Туркестана» как-то странно посмотрел на Эшши-хана, смешно вытянув клинообразную, как у кабана, голову в темно-буроватой шапке, схожей по цвету с холкой этого поганого животного. Было непривычно видеть священнослужителя без его обычной зеленой чалмы. Уши у него тоже точь-в-точь кабаньи: мохнатые, вечно настороженные, пошепчись — за версту услышит.
— С такими, как ты, Эшши-хан, Туркестана не вернешь, — упрекнул Ишан Халифа. — Одна надежда на немцев. А афганцам они откроют выход к морю, через Карачи. У этой несчастной страны нет ни железной дороги, ни морских путей. Мы тоже поможем Афганистану обрести и то и другое...
— Трус он, афганский король! Зачем ему Карачи? Он хотел бы с немцами снюхаться, да русских боится, под боком они никак. «Моя страна будет соблюдать в войне строгий нейтралитет», — Эшши-хан передразнил короля на дари.