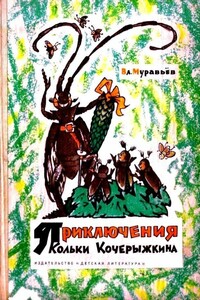На несколько дней он остановился в Москве. Фонвизин поехал к нему с визитом.
Ермолов, увидев своего бывшего адъютанта, подозвал его:
— Поди сюда, величайший карбонарий! — И когда Фонвизин подошел, сказал: — Я ничего не хочу знать, что у вас делается, но скажу тебе, что он вас так боится, как бы я желал, чтобы он меня боялся.
Передавая потом слова Ермолова Якушкину, Фонвизин с грустной усмешкой добавил;
— Как успешно увеличивает средства и могущество тайного общества болезненное воображение императора…
* * *
Уже не было никакого сомнения, что правительство осведомлено о существовании тайного общества. Да и немудрено это, когда о нем толкуют в гостиных, орут на пирушках, когда порицание правительства и намеки на собственную принадлежность к некоей партии его противников стали у молодых щеголей одним из способов нравиться девицам.
Михаил Александрович ясно видел, что при таком положении члены тайного общества на первых же решительных шагах будут остановлены и изолированы и ничего не смогут сделать или же общество превратится в пустую игру взрослых людей наподобие масонских обедов.
Одному из главнейших руководителей общества — Тургеневу он сетовал:
— Не следует оставаться в таком неопределенном положении, что нельзя сказать: существует общество или же его не существует вовсе.
Дом Фонвизина в Москве на Рождественском бульваре, 12, где проходил съезд декабристов в 1821 году
В январе 1821 года съезд членов тайного общества большинством голосов постановил, что время решительных действий не наступило. Когда же позиция присутствующих на съезде обрисовалась полностью, Фонвизин объявил, что дальнейшее свое участие в собраниях он считает для себя бесполезным.
Потом он говорил Якушкину:
— Я готов рисковать головой, но не за пустые разговоры. Кроме того, открою тебе тайну: я собираюсь выйти в отставку и жениться. Но прежде чем сделать предложение, я должен был выяснить, имею ли на это право. Заговорщик не смеет подвергать невинного человека опасностям своей судьбы. Если бы я остался в заговоре, то вынужден был бы отказаться от нее.
— Но кто она?
— Наталья Дмитриевна Апухтина.
Барышня
Страшный переполох царил в усадьбе костромского предводителя дворянства Дмитрия Акимовича Апухтина: пропала его единственная семнадцатилетняя дочь Наташа.
Она имела обыкновение целыми днями бродить по берегам Унжи, уходила в поля, в лес, посещала окрестные деревни, где у нее были знакомые и опекаемые ею бедняки и калеки. Поэтому хватились ее только вечером.
Пока кричали по парку, обегали излюбленные места поблизости, наступила ночь.
Барыне Марье Павловне сделалось дурно, она плакала и нюхала соль.
Дмитрий Акимович разослал конных по деревням.
Горели огни, бегали слуги.
Барышнина няня Матрена Петровна поначалу разохалась вместе со всеми, всплакнула, потом утерлась и пошла в девичью.
Немного погодя она притащила к барину за руку упиравшуюся девку Марфушку, горничную, прислуживавшую барышне.
— Ну-ка, милая, изволь говорить! О чем вчера с барышней шепталась? Куда нынче провожала? Говори, не то барин тебя высечь прикажет!
— Не пугай ее, Матрена, — поморщившись, сказал Дмитрий Акимович. — А ты, Марфушка, говори, если знаешь, где барышня.
Горничная упала на колени:
— Наталья Дмитриевна не велели сказывать, куда ушли.
Апухтин перекрестился:
— Ну, слава богу, жива! Матрена, беги к барыне, скажи, что Наташа жива! А я с Марфушкой еще поговорю.
После недолгого запирательства Марфушка открыла, что барышня ушла из дому в монастырь, но в какой, она не знала.
— Вот видишь, дорогая, все не так страшно, — утешал Дмитрий Акимович жену. — Я отнесусь в Министерство духовных дел, запросят все монастыри, и мы найдем нашу беглянку. Только на это, конечно, потребуется время. Завтра же я отправлюсь в Москву.
— Господи, вечные истории с этой девочкой…
— У нее добрая душа, правда, чересчур пылкое воображение, но душа добрая… Я полагаю, что на нее так подействовала история с этим молодым человеком:
Марья Павловна вздохнула и сквозь слезы улыбнулась:
— Бедняжка так в него влюблена, что за версту видно…
Все признавали, что Наталья Дмитриевна — красавица. Нельзя сказать, что черты ее лица, каждая в отдельности, были правильны и могли быть соотнесены с каким-либо классическим образцом. Но их мягкость, изящество, нежность и, наконец, глаза, светящиеся добротой, доверием к собеседнику и пытливой мыслью, — все это делало ее необычайно милой.