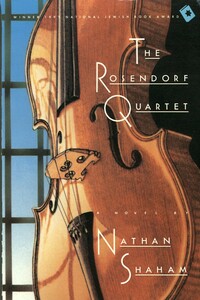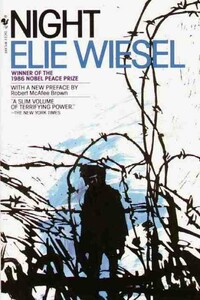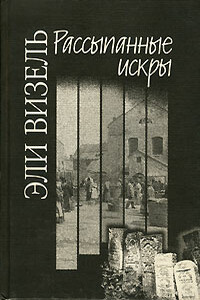Каков был результат его реальных или мнимых путешествий? Он говорил хорошо и много. Он владел тремя десятками древних и новых языков, в том числе венгерским и хинди. По-французски он говорил прекрасно, по-английски — безукоризненно, а идиш его принимал акцент любого собеседника. Зохар и Ведцы он читал наизусть. Вечный жид, он чувствовал себя дома в любой культуре.
Вечно грязный, вечно оборванный, он был похож на бродягу, ставшего клоуном, или на клоуна, изображающего бродягу. На его огромной, круглой, шишковатой голове всегда сидела крошечная шляпа; взгляд прятался за толстыми пыльными стеклами очков. Встречные, не знавшие его, отстранялись с отвращением. Надо сказать, что это доставляло ему большое удовольствие.
Три года в Париже я был его учеником. Близ него я узнал многое: узнал, как опасен язык и разум, узнал, что такое гнев мудреца — и безумца тоже, — узнал таинственные пути мысли сквозь столетия и колебания этой мысли, но ничего не узнал о тайне, которая терзала — или защищала — его перед лицом больного человечества.
Наша первая встреча была краткой и бурной. Она произошла в старой синагоге на улице Павэ, куда я часто приходил в пятницу вечером, чтобы присутствовать на богослужении, которым встречают Царицу-Субботу.
После молитвы верующие окружили отвратительного старика, который, размахивая руками, стал объяснять им Сидру — главу Библии на предстоящую неделю. Голос его звучал хрипло и неприятно. Он говорил быстро, фразы так и наскакивали друг на друга, за ним трудно было поспеть; он делал это нарочно: его забавляло, что слушатели не понимают, в чем дело. Каждое слово, каждая мысль были понятны, и все-таки чудилось, что это самообман, что он издевается над теми, кто делает вид, будто понимает. Но никто не оказывал сопротивления: даже это чувство становилось каким-то нездоровым умственным наслаждением.
В середине своей речи он вдруг заметил меня. Он крикнул:
— Ты кто?
Я назвал свое имя.
— Иностранец?
— Да.
— Беженец?
— Да.
— Откуда?
— О, — сказал я, — издалека. Оттуда.
— Верующий?
Я не ответил. Он повторил:
— Верующий?
Я снова промолчал. Он сказал:
— Ага, понимаю.
И продолжал свои расспросы, словно не замечая моего смущения:
— Студент?
— Да.
— Что изучаешь?
— Хотел бы изучать философию.
— Почему?
— Потому.
Он не отставал:
— Почему?
— Я ищу.
— Чего?
Я хотел поправить: не «чего», а «кого». Однако я этого не сказал и просто ответил:
— Еще не знаю.
Его это не удовлетворило:
— Чего ты ищешь?
Я сказал:
— Ответа.
Он словно хлестал меня словами:
— Ответа на что?
Можно было бы сказать ему: не «на что», а «кому», — но я предпочел выразиться проще:
— На мои вопросы.
Он саркастически хихикнул:
— Значит, у тебя есть вопросы?
— Да, у меня есть вопросы.
Он протянул руку:
— Дай сюда, я тебе их верну.
Я ошеломленно посмотрел на него, ничего не понимая.
— Да, — сказал он, — я верну их тебе разрешенными.
— Как? — вскричал я. — Вы обладаете ответами на вопросы? И признаете это при всех?
— Вот именно, — сказал он. — Если хочешь доказательства, то я тебе его тут же предоставлю.
Я промолчал минуту, потом сказал:
— Нет, в таком случае я предпочитаю верить вам на слово.
— Мне это не нравится, — рассердился он.
— Ничего не поделаешь, — сказал я, краснея. — Если вы можете ответить на мои вопросы, то у меня их нет.
Старик — сколько ему было? семьдесят? больше? — долго смотрел на меня; прихожане тоже. Мне стало страшно: я почувствовал, что мне что-то угрожает. Куда спрятаться?
Старик склонил свою тяжелую голову.
— Задай мне все-таки вопрос, — сказал он примирительно.
— Я уже сказал вам: у меня их нет.
— Есть, есть. Всего один вопрос. Неважно, какой. Не пожалеешь, вот увидишь. Чего тебе бояться?
Чего мне бояться? Да всего. Послушаешься один раз — послушаешься и второй. Этому не будет конца — и больше для меня не будет свободы.
— Ну? — дружелюбно сказал старик. — Только один вопрос…
Я молчал. Лоб его нахмурился, черный огонь вспыхнул в глазах.
— Да это просто глупость, парень. Я предлагаю тебе кратчайший путь, а ты его отвергаешь. А ты уверен, что имеешь на это право? Уверен, что твой приезд во Францию свершился не ради встречи со мной?