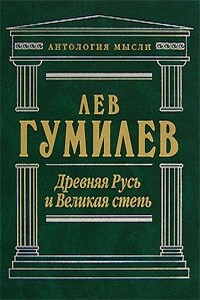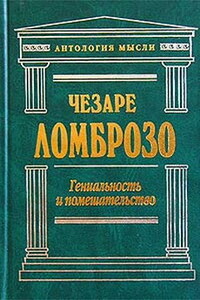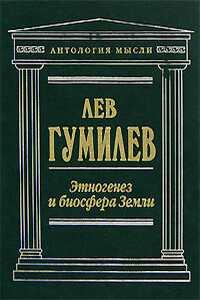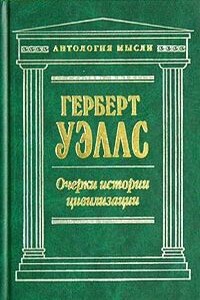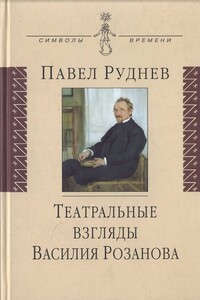Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария - страница 19
Вот почему, что касается, в частности, до рабства, то при религии оно тем более усиливалось, чем слабее она или искаженнее становилась; напротив, при праве оно усиливалось с его последовательностью, чистотою, беспримесностью. В истории наиболее страшно оно было у римского народа, самого совершенного в понимании права: здесь рабов крошили на говядину, которою откармливали рыбу в прудах; наиболее же гуманно оно было у древних евреев, живших под строгою религиею: в юбилейные годы там все рабы должны были возвращаться на свободу, т. е. они были предметом временного пользования, но не владения в строгом смысле, не собственности.
В «Преступлении и наказании» впервые и наиболее обстоятельно[42] раскрыта Достоевским идея абсолютного значения личности. Среди безысходного страдания, при виде гибнущих и готовящихся погибнуть, возмущается целомудренная душа главного героя этого романа, и он решается переступить закон неприкосновенности человека. Гениальная диалектика подставлена под факт; он совершен. И тотчас же, как произошло это, началось мистическое взаимодействие между убившим, убитою и всеми окружающими людьми. Все, что совершается в душе Раскольникова, иррационально; он до конца не знает, почему ему нельзя было убить процентщицу. И с ним вместе и мы не понимаем умом, диалектически, состояний его совести, качеств его поступка. Но цельным существом своим мы совершенно ясно ощущаем необходимость всех последствий совершенного им факта. Едва разбил он отраженный Лик Божий, правда обезображенный его носителем, — и он почувствовал, как для него самого померк этот Лик и с ним вся природа. «Не старушонку я убил, себя я убил», — говорит он в одном месте. Точно что-то переместилось в его душе, и с этим перемещением открылось все в новом виде и закрылось навеки то, что он знал прежде. Он почувствовал, что со всеми живыми, оставшимися по сю сторону преступления, у него уже нет ничего общего, соединяющего; и никогда этого не будет. Он переступил по другую сторону чего-то, ушел от всех людей, кажется — туда, где с ним одна убитая старушонка. Мистический узел его существа, который мы именуем условно «душою», точно соединен неощутимою связью с мистическим узлом другого существа, внешнюю форму которого он разбил. Кажется, все отношения между убившим и убитою кончены, — между тем они продолжаются; кажется, все отношения между ним и окружающими людьми сохранены и лишь изменены несколько, — между тем они перерваны совершенно. Здесь, в этом анализе преступности, в обнаружении как бы покровов, скорлуп душевности, окружающих каждое «я» и то взаимодействующих, то перестающих взаимодействовать, и разгадана глубочайшая тайна человеческой природы, раскрыт великий и священный закон о непереступаемости человеческого существа, его абсолютности. Насколько доступно это мистическое явление не столько объяснению, сколько простому обозначению словами, мы можем его выразить таким образом: то, что мы наблюдаем в человеке, его поступки, слова, желания, все, что о нем знают другие и он знает о себе, не исчерпывает полноты его существа; в нем есть еще иное сверх этого, и притом главное, чего никто не знает[43]. Привязываться, любить в человеке мы должны это главное: поэтому-то и любим мы его иногда вопреки всему, что видим в нем; напротив, ненавидеть в человеке мы можем только внешнее и не главное, какое-то обезображение, которому он подверг себя. Но когда, смешивая то и другое или, точнее, ничего не зная о существовании в человеке за его наружными проявлениями еще чего-то, мы разбиваем его образ — мы разбиваем целое, которого не подозревали. Мы вдруг касаемся главного, о чем не думали, и испытываем неожиданное, что не входило в наши соображения. Таким образом, только переступив личность человека, мы постигаем все ее значение: для нас открывается мистический и иррациональный смысл ее, но уже поздно. Сделав ненужным подобный опыт, обнаружив со всею убедительностью в гениальном изображении состояние преступной совести, Достоевский оказал великую историческую услугу.