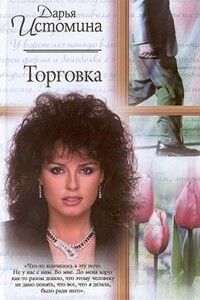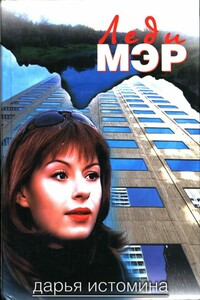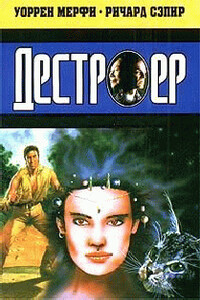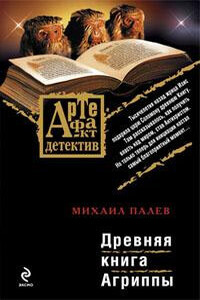Но Клецов даже не колыхался.
Может быть, потому, что ему еще надо было хоть изредка, исподтишка, но видеть меня? Просто — видеть? Как бы там ни было, но Петька все еще присутствовал где-то рядом со мной, он не просто был, этим присутствием он напоминал Л. Басаргиной, что он еще есть. Во всем этом была какая-то тревожная нелепость, и во мне оживало неясное предчувствие беды и боли и такое же неясное ощущение собственной вины. Как бы я его ни давила. Только в чем виновата женщина, если она просто не любит?
…Аллилуйю я всегда седлала сама, с первой ездки, когда конюх Зыбин с ухмылкой сказал: «Твоя кобыла, вот и валяй, девушка!» Лошадь я тоже выбирала сама. Конюх не подозревал, что я нормально разбиралась во всех этих потниках, недоуздках и подпругах, потому что Панкратыч приучал меня к лошадям на лесном кордоне еще пацанкой. В конюшне отстаивался среди остальных шести коников красавец араб, доставленный когда-то Туманской из Туркмении, по кличке Султан, нервный, мощный, с сухими, как у балетного танцовщика, ногами и горячими фиолетовыми глазами.
Жеребец был породистый, нехолощеный, такой лошадиный аристократ голубых кровей, и если Нина Викентьевна действительно справлялась с ним, то это означало, что она была человеком неробкого десятка.
Он храпел, фыркал, косилс на меня бешено, под вороной шкурой подергивались и струились мощные мышцы, но может быть, я бы и рискнула опробовать жеребчика, если бы не то, что он был ее, Туманской, а ничем, что принадлежало ей, мне не хотелось пользоваться.
Так что когда Зыбин, не без ехидности, начал подсовывать мне именно Султана, я посоветовала ему не лезть не в свое дело, прошлась по конюшне и выбрала Аллилуйю.
Это была симпатичная трехлетка, немножко перекормленная, серенькая, со светлой гривкой и хвостом, которая на первой ездке, конечно, тоже попробовала взбрыкнуть и показать характер, но я огрела ее пару раз по заднице плетью, поработала шпорами и удилами, и кобылка утихомирилась.
Ну а когда я ее накормила, отчистила, угостила горбушкой с солью и мы с нею немножко пошептались, у меня появилась подружка, которая слушалась меня, как собачка.
Так что и на этот раз она меня встретила негромким радостным ржанием. Конюх Зыбин оценил то, что я не боялась вил, лопаты и щеток со скребками, душистым платочком от конского говнеца не прикрывалась, а когда выхлестала дружественную поллитру водки «Краснознаменная» «кристалловского» разлива, допуск в конюшню для меня стал беспрепятственным…
В девятом часу утра я выехала в боковые ворота с территории. Время у меня до часа, назначенного Чичерюкиным, еще было, и я пустила Аллилуйю неспешным шагом. Кобылка трусила, помахивая башкой, султанчики пара от ее выдохов таяли в прозрачном намороженном воздухе.
В дубняке, сквозном и просторном, где мощные кряжи стояли далеко друг от друга, было тихо, как бывает только в предзимье, когда птицы перестают петь. Кобылка неслышно переступала по мягкому слою опавшей листвы. Иней на корявых голых ветках дубов начинал таять и испаряться, и их плетение на фоне блеклого неба казалось особенно черным. Пару раз Аллилуйя косилась на развороченную землю и недовольно всхрапывала: ночью кабаны подбирали здесь опавшие желуди и наворотили копанок. Едкий звериный запах явственно чувствовался, пробивая запахи палой листвы и мхов.
Я почти не работала поводьями, маршрут для лошади был привычный, я не первый раз путешествовала через дубняк, и она сама знала, куда идти.
Скоро дубняк раздался, открылся пологий, бурый от прошлогодней травы склон широкого холма, с которого открывался необозримый простор лугов, сизые рощи, которые разрезала черная полоса канала Москва — Волга. Канал еще не замерз, на черной воде белел слабый блинчатый лед, и какой-то буксир-толкач полз по каналу, проталкивая нелепым носом перед собой плоскую баржу, на которой стояли новые «жигулята». Наверное, это был один из последних рейсов перед тем, как канал замрет до весны.
Я слезла с седла и, оставив лошадь внизу, поднялась по ступенькам неширокой лестницы без перил на вершину. Лестница была из темного гранита, строители укладывали ее почти все лето, но умудрились сохранить травяной покров нетронутым.