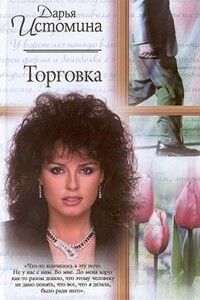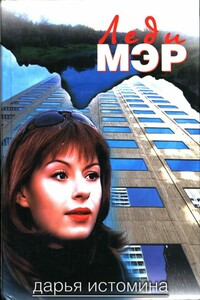Одно я знала уже точно: как бы меня ни распытывали, я эту бедолагу с иномарки в первый раз увидела вот тут, в подвале. А насчет той ночи близ церквухи на островах — буду молчать, как мумия египетская. Пусть доказывают!
Я поднялась с дивана, Ефимовы кеды валялись на ковре, я взяла их под мышку и пошлепала к дверям.
— Далеко собрались, Басаргина? — сказал он. Ишь ты, уже и фамилию знает! От Петьки, что ли?
— У меня дитя без надзора… Оно ж у меня днем чуть не удушилось! Сами видели!
— С ребенком все в порядке. Там нянек хватит. Я распорядился, — сказал он.
— А что это вы не своим распоряжаетесь?!
— Сядьте! — напористо кивнул он.
— Да нечего мне тут рассиживаться! — Я работала под тупую, почти базарную девку.
— Я… прошу вас. Очень прошу, — негромко и как-то устало сказал он.
— Ну, когда женщину просють…
Он вежливо пододвинул кресло, я плюхнулась с вызовом, ножку на ножку, подол повыше, так, чтобы коленочки засветились. И чуть-чуть повыше.
— Есть хотите? — Он сильно потер лицо, будто умывался.
— Благодарю вас! Накормили!
— А по «чуть-чуть»? — Он шагнул к стене и открыл створки бара. — Вы что предпочитаете? Красное? Белое? Розовое? Сухое испанское? Токай? Виски, джин, водочку? Со льдом? Тоником? В чистом виде или смешать?
Я покосилась на выставку хрустальных посудин, пестроту этикеток и скромно, с громадной стыдливостью, сообщила:
— Непьющие мы!
— Тогда… покурим? Угощайтесь!
Он вынул из стола початую пачку какого-то курева, протянул мне, я машинально взяла тонкую черную сигарку, он щелкнул перед моим носом золотым «ронсоном», и я затянулась. Курить мне хотелось всерьез, но табак в сигарке был не мой, слишком пряный и сладкий.
Я попыталась разглядеть красную наклеечку ближе к пластмассовому мундштучку, и тут меня пронзило! Точно такие же сигарки были в початой пачке той бедолаги, и пачка была точно такая же. красного цвета, с контуром египетской пирамиды и арабской вязью золотом.
Все передо мной поплыло, я сызнова будто в полусне увидела поляну возле церквухи, мерцающий свет мощных фар, нелепо скорченную фигуру женщины близ колес, остекленевшую черноту ее застывших глаз и мокрое пятно на ее жилетике…
Меня опахнуло морозной дрожью, и я торопливо погасила сигарку, ткнув ее в малахитовую пепельницу.
— Значит, вы ее все-таки видели… — сказал он как-то тускло, пристально вглядываясь в меня. Зрачки его будто плавали за стеклами очков. — Запашок этот ничего вам не напоминает? Она же ими всю машину прокурила… Это с вами я говорил по мобильнику? Голос тот же! Конечно с вами!
— Вы про что? — пролепетала я. Он поморщился как-то болезненно, потянул дверцу сейфа, отделанную под мореный дуб, как и остальная обшивка стены, и начал вынимать и выкладывать на стол передо мной весьма знакомые вещички. На столешницу легла отмытая от грязи и скукожившаяся туфля, одна из тех, что выдавал мне Бубенцов, его же слаксы в пластике, банка оливок со снетками, из запасов на Зюнькином катере, мятые колготы, которые я так и не успела найти и натянуть, когда в темноте ползала на карачках но церквухе и у меня все сыпалось из рук.
Но главным было не это, главным было — обыкновенная алюминиевая ложка, которой я пользовалась в последние месяцы и которую сохранила как тюремный сувенир. Все бы ничего, но на черенке я сама нацарапала гвоздем «Басаргина Л. Ю.» и носила ее постоянно, чтобы не подцепить с чужой посуды в столовке какую-нибудь инфекцию. На такое смотрели сквозь пальцы: на каждом медосмотре то и дело всплывали свежие туберкулезницы.
В общем, это было то же самое, как если бы я оставила в церквухе все свои справки.
В моих ушах лязгнули засовы, по новой взвыли сирены подъема и отбоя, и голос судьи Маргариты Федоровны Щеколдиной расколол небеса: "Встать!
Суд идет!"
— Вот что! — тупо заявила я. — Ничего такого! Я покойников просто боюсь… Увидела это… там… в подвале… Ну, кто не заорет?!
— Да бросьте вы… — глухо сказал он. — Это все мои люди наскребли. А вот это я сам нашел. Три дня назад!
Он повертел ложку и бросил ее.
— Я ведь искал вас, Лизавета Юрьевна… Он вынул портретную афишку:
— Видите? Попросил — и сделали это!