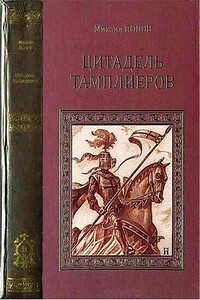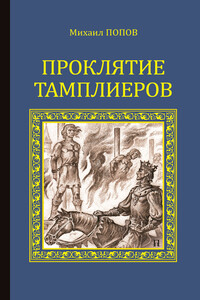В милиции легко, без глупых вопросов и сальных намеков выдали адрес сварщика Перкова.
Общежитие строителей азотно–тукового комбината. Лариса смутно представляла себе, что на окраинах старинного города происходит вколачивание в землю огромных государственных средств, с целью возведения там огромного завода по производству минеральных каких–то удобрений.
На секунду она смутилась. Ей предстояло покинуть ухоженную, вымощенную гладким булыжником, увитую плющом и виноградом территорию и отправиться в дикие места огромных котлованов, ревущих тракторов, пыльных самосвалов, мужчин в промасленной одежде с папиросами и сомнительными комплиментами в зубах.
Но разве это препятствия для настоящего женского характера? От конечной остановки третьего троллейбуса до того самого общежития она отправилась по обочине грузовой трассы, преодолевая искусственную, поднятую машинами метель.
Вахтерша, с ужасом оглядев ее дубленку и прическу, назвала номер комнаты. Лариса демонстративно уверенным шагом поднялась на третий этаж. Разумеется, «его» комната была в самом конце коридора, можно сказать на отшибе, ее окно выходило не в фасад, а в торец здания. «Он» и здесь, в толпе работяг, умудрялся поддерживать состояние относительного одиночества.
Пальцы тряслись, это надо было признать, и тогда Лариса сжала их в кулак, чтобы унять дрожь, и постучала в дверь кулаком. Звук получился тяжелый, напористый, можно сказать, властный. Дверь была поцарапана, а замок раз пять ремонтирован, из чего Лариса заключила, что «к нему» часто вламываются в жилище. Может быть, и женщины. Почему–то и этот вывод пошел в плюс поэту.
Перков открыл. Он был гол по пояс, в трениках и тапочках. У него было удивительно белое тело, такого же цвета, как кожа вокруг глаз. Оказывается, только лицо темнеет от жестокого сварочного труда и непонимания окружающих.
— Я думал это комендант. — Объяснил он, хотя ситуация в объяснениях с его стороны не нуждалась.
— Можно войти? — С вызовом спросила Лариса.
Комната была крохотная как купе проводника. Но чистая, никаких тебе сушащихся портянок (Лариса была готова ко всему), и разбросанных отбойных молотков. Имелась на стене полка, настолько провисшая под тяжестью книг, что это наводило на мысль о какой–то беременности.
— Садись.
Из мест для этого подходящих имелся только табурет и узкая, примятая кровать. Нет, кровать, это было бы слишком для самого начала, решила Лариса, и села на табурет. Рядом с ним на тумбочке стояла удивительная вещь — пишущая машинка. Своим черным, технически выспренним обликом она выделялась среди прочих местных вещей как породистая иностранка. Ларисе захотелось представиться ей, как матери поэта.
— Меня хотят выгнать. — Продолжал что–то объяснять Перков, хотя нужды в его объяснениях не стало больше. — Сначала уволили со стройки. Теперь, говорят, освобождай помещение.
В его голосе слышалось ироническое возмущение. И в самом деле, с какой это стати выгонять из рабочего общежития человека, который уволили с работы за прогулы и пьянство.
— Обещали, что придут с милицией. — Поэт развел руками, показывая, что он прощает принципиальную абсурдность этого мира. Он уже надел рубашку, и чем больше пуговиц он на ней застегивал, тем больше в нем появлялось интеллигентности.
Лариса открыла сумочку, защищавшую колени, и достала оттуда бутылку коньку, украденную из отцовского бара. Почему коньяк? Она хотела протянуть ниточку связи к тем трем вокзальным рюмкам, показать, что у их отношений есть история.
Перков повел себя блестяще, он не застыл в идиотском обалдении как природный сварщик — в чем, мол, дело? Не расплылся в самодовольной улыбке польщенного самца. Он просто взял бутылку из рук дамы, потому что ей там не место, вынул из тумбочки два по–разному элегантных, хотя и не коньячных бокала, изящно надломленное песочное пирожное на блюдце и сервировал уютное застолье.
— Я бы ушел, но куда я со всем этим? — Махнул Перков в сторону книжной полки с таким видом, будто он герцог выселяемый из замка со всеми мебелями.
Коньяк солидно наливался в бокалы, как будто понимал, сколько в нем заключено роскоши человеческого общения. Ларисе хотелось пить, и она думала о коньяке только как о напитке.