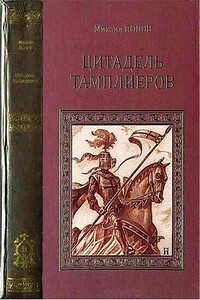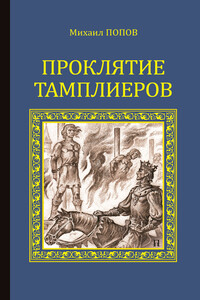Ее не только поняли, хотя буквально каждый человек для картошки был на вес золота (громадный урожай 197.. года, задание обкома, колхозы задыхаются от отсутствия рабочих рук), но и в дальнейшем ставили в пример ее преданность институту доходящую до самозабвения.
Этот поход в деканат был замечателен еще одним моментом. Она столкнулась там с Леонидом Желудком. Он весело, по–приятельски с ней поздоровался, Лариса же чувствовала себя не в своей тарелке. Только что она была благодарна своему спортивному синяку, но при виде этого негодяя в хорошем югославском костюме, она разозлилась на себя, за то, что находится до такой степени не в форме. Не то, чтобы она желала произвести на Леонида неотразимое впечатление, он был ей неприятен как человек, но она не могла не учитывать, что он мужчина.
Желудок пригласил заходить в гости — «по–простому, по–товарищески, работали же вместе», — правда, не сообщил куда именно. Ларочка тогда не поняла: это не оттого, что приглашение было формальным, а от слишком большой уверенности — буквально всем известно, где он теперь обретается.
Гандбольное повреждение оказалось не совсем безобидным. Была повреждена какая–то маленькая мышца на левой щеке. Травма была совершенно незаметна, пока лицо Ларисы не выражало никаких чувств. Но стоило включить мимику, как во всякое движение лица вмешивалась едва заметная поправка. Улыбка получалась чуть иронической, удивление слегка высокомерным, неудовольствие малость свирепым, и все остальное — обида, восторг, скука получало некую эмоциональную присадку. Любой собеседник невольно был вынужден разгадывать эту непреднамеренную психологическую игру, хотя за ней ничего реального не стояло. В это время Лариса спокойно добивалась того, что ей было нужно от этого разговора. Собеседник, как правило, соглашался на ее условия, и даже чувствовал облегчение, когда она оставляла его в покое, получив свое. Со временем Лариса осознала и очень хорошо отточила технику мимического подавления, и поняла, что на мужчин она действует лучше, чем на женщин.
Все это выяснилось позже, а в те дни освобождения от картошки, она заскучала. Выяснилось, что оторвавшись от коллектива даже в выгодном для себя смысле, она не чувствует себя счастливой. Не дождавшись полного исчезновения синяка, она нацепила черные очки, купленные отцом во время крымского отдыха, она пошла по городу на поиски общения.
В Доме Офицеров был ремонт.
В институтском корпусе было пустынно. Старшекурсники заседали на своем третьем этаже, и в их круг было не втиснуться. Но попалась ей одна открытая дверь, в которую входили некие люди. Оказалось, что это литературный кружок. Помещение было заставлено шкафами с колбами и непонятными приборами, на стенах висели пачки географических карт и таблиц Менделеева. Портреты Льва Толстого и Тимирязева были прислонены к стене, рядом с охапкою старых, разномастных лыж. Пахло пылью, канифолью и непонятной неформальностью. Можно было при желании подумать, что сборище это чуточку запрещено. Здесь сошлись самодеятельные институтские поэты. Первое, что бдительно подумала Лариса — неужели они все тоже освобождены от картошки? Неужели болезнь и поэзия так уж связаны?
Она быстро поняла, что не все здесь знакомы друг с другом, большинство — новички, и успокоилась. На ней, помимо очков, были совершенно новые польские джинсы, туфли на высоченной платформе, она, закинув ногу на ногу, демонстрировала собравшимся размер ее, как уровень своей независимости. Еще на ней была черная водолазка с узким горлом, что, как ей казалось, делало ее самой поэтической фигурой этого собрания.
Посреди склада учебного оборудования, стояли свободным полукругом десятка полтора стульев. Сидящие держали на коленях кто тетрадку, свернутую в трубочку, кто стопочку листков машинописного текста. Завсегдатаи громко, по–хозяйски переговаривались. Новички бросали по сторонам затравленные взгляды.
Когда порядок почти установился, возник руководитель. Он вошел, мягко улыбаясь, в сопровождении двух льнущих к его власти поэтесс. Терпеливо кивнул им несколько раз, дослушивая их угодливый лепет, и отослал в общие ряды.