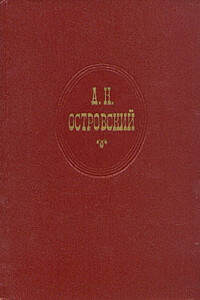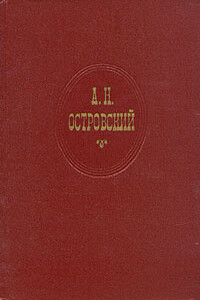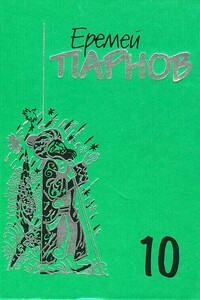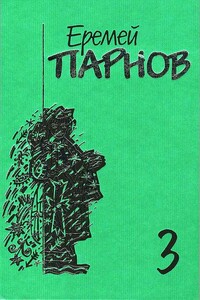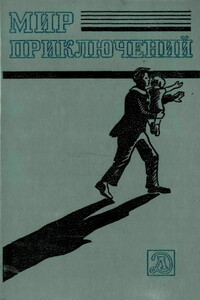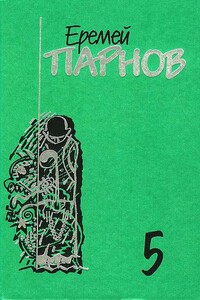В древнем памятнике «Ямато-моногатари», то есть Японских сказаниях, мне запомнилась одна танка, долго тревожившая воображение неуловимой логической игрой:
Расставаясь с жизнью,
Все же встретиться с тобой —
Такой клятвы я не давала.
Но бренное мое тело
На воде показалось.
Поэтичность, проникновенная грусть — это было на поверхности и не требовало никакой расшифровки. И все же оставалось нечто такое, что никак не укладывалось в слова. Я обратился к приятелю-японисту, который растолковал игру омонимов: ми-во на-гу — «броситься в воду» и «умереть», укими — «бренное тело» и «всплывающее, плывущее на поверхности воды тело». Смысл определенно углубился, подобно свече, отражающейся в супротивно поставленных зеркалах, но тайна так и осталась несказанной.
Слитность объекта с субъектом — вот то главное, что отличает миросозерцание Востока. Именно здесь скрыта тайна его очарования, равно как и ключ к подтексту, без которого едва ли возможно постигнуть глубинную суть и философии, и литературы. Впрочем, есть еще и особая, в чем-то приближающаяся к алгебраической, логика, которую вполне заслуженно именуют парадоксальной. Свободно оперируя привычными для западною сознания полярностями, она как бы приподнимается над ограниченностью «да» и «нет», проскальзывая сквозь дискретные ячейки утверждений-отрицаний, словно вода, не теряющая своей текучей сплошности.
Вот характерный пример, взятый из сутр «Праджняпарамиты», написанных в конце третьего века н. э. в Индии: «Когда Будда проповедовал о скоплении пылинок, то это были не пылинки. Это и называют скоплением пылинок».
Как тут не вспомнить, что слово изреченное — есть ложь? А если и не ложь в прямом, точнее, примитивном смысле, то по крайней мере и не истина. Ибо всякое описание расходится с реальностью, так как язык оперирует лишь «ярлыками, надетыми на реальность». Считается, что подобная логика — не формальная и не диалектическая — опирается на философское понятие пустоты — «шуньяты».
Не вдаваясь в метафизические тонкости, я все же рискну поспорить по поводу ее «недиалектичности». Трудно не увидеть, что выстраивается характерная триада из утверждения, отрицания и некого возвращения к изначальному утверждению, но как бы уже обогащенному попыткой ниспровержения. На мой взгляд, это не только оригинальный, но и весьма многообещающий метод анализа.
На конгрессе Пен-клуба в Бледе (Словения), темой которого была извечная проблема «Правда истории и правда искусства», я попробовал построить выступление на фигурах парадоксальной логики.
Правда истории — правда искусства. Противоречие как будто бы заложено здесь уже в основе. История принадлежит прошлому, искусство, подлинное искусство, всегда современно.
Значит — две правды? Притом разные?
Но кто может отнять у капризной музы истории Клио право быть современной? Напротив, ее постоянно подновляют и подправляют. Ей то тут, то там накладывают самый модный макияж. Вспомним Джорджа Орвелла: «Кто конструирует прошлое, тот конструирует настоящее, кто конструирует настоящее, тот конструирует будущее».
Это одна, крайняя сторона. Но есть и другая. «Кто не заботится о будущем, тот уже потерял настоящее». Как автор научно-фантастических романов, я знаю цену этой нестареющей истине древних римлян. Но как писатель-историк, всегда помню об условности временных разделений. О стойкости идей, порой порочных и диких, проникающих в самую лучезарную действительность из обветшалых гробов.
В романе «Клочья тьмы на игле времени» была сделана попытка соединить научную фантастику с исторической прозой. Хотелось попытаться взглянуть на прошлое как бы из далекого будущего. Обнаружить сходные элементы, будь то идеология, пропаганда, ритуал, в самых различных эпохах.
Как иначе можно было обнажить корни фашизма, выявить его живучие ростки? Так от научной фантастики я пришел к историческому роману. И этот полет, это путешествие в катакомбах истории нравится мне все больше и больше. Следы минувшего неожиданно проступили даже на шумных улицах современных городов мира, как путеводные знаки.
И здесь рубежным видится мне роман «Ларец Марии Медичи», за которым через неравные промежутки времени последовали «Третий глаз Шивы» и «Мальтийский жезл», объединенные в трилогию не столько сквозным героем, вернее, героями — детективом Люсиным и писателем-историком Березовским, сколько общим методом внедрения исторических ретроспекций.