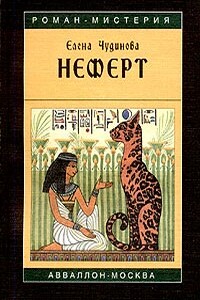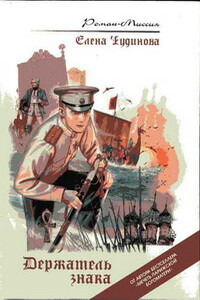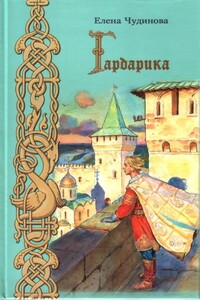— Пусть убийцею я и оказалась невольно, — продолжила княгиня, — однако грех, пусть многажды меньший, нежели самоубиение, лег на мою душу. Десять долгих лет провела я в свете, прежде чем смогла, не повредив моим малолетним детям, принять постриг. Я ни о чем не крушусь и думаю, что тетушка была права, прибегнув к моей помощи таким ужасным образом, однако лишь здесь я обрела покой. Только сдается мне, отец мой, зряшно я пред тобою распинаюсь. Ты вить, поди, мою жизнь знаешь, коли пожаловал сам ведаешь от кого.
— Быть может, святая мать, мне и ведомо что-то, — улыбнулся отец Модест. — Но что бумажные сведенья в сравненьи с живой повестью человеческой души?
— Так все же, отец, за каким делом ты прибыл? — веско спросила княгиня.
— За самым пустяшным, право слово, за самым пустяшным. Крестница Ваша Елизавета Федоровна, да и супруг ее милейшие люди, но…
— Не стоит договаривать. Они из тех, кого мы зовем обыкновенно взрослыми детьми… Жизнь представляется для них такою, какой предстает взору. Они щасливо не ведают прикосновения простегивающих бытие незримых нитей. И лучше жить так, чем впасть в ересь окаянных каменщиков. Так что мне надобно уладить с моей роднею?
— Нелли должна съездить со мною на довольно дальнее богомолье. Лучше бы вообще без их ведома, но во всяком случае необходим надлежащий предлог.
Недоуменный взгляд игуменьи остановился на Параше.
— Какой же прок Воинству от девчонки-недоростка? Впрочем, как знать… — княгиня задумалась. — Коли дитя может принести беду, то может и отвести ее.
— Вы правы, святая мать.
Игуменья продолжала глядеть на Парашу, словно видела девочку впервые. Это было не слишком приятно.
— Неужто она из наших?
— В ином случае стали б Вы при ней рассказывать?
Княгиня добродушно рассмеялась.
— И то верно, мне с первого взгляду подумалось, что сие дитя вовсе не то, чем хочет казаться. Да, отец мой, задал ты мне задачу.
— Уж одолжите справиться, святая мать. Есть надобность.
— Да надолго ли? — княгиня задумалась.
— Один Бог ведает. Может статься — до Рождества, может, и доле.
Минула неделя, ничем не отличная от прочих, разве только присутствием отца Модеста. Впрочем, его вовсе не было видно — большую часть дней священник проводил в монастырской вифлиофике.
— Слышь, барышня, вот уж новость так новость! — вбежала в Парашину келью Надёжа на осьмой день, через час после обеденной трапезы.
— А что случилось-то, Надёженька?
— Мать-игуменья-то собралась в скит, что на Синь-озере! Ох, там, сказывают, лепые места. В скиту всего семь черниц живет, по числу дней на неделе. Воскресная черница — игуменья.
— Как это — воскресная? — не поняла Параша.
— Ну, это не устав, так, обычай, — Надёжа опустила рыжие ресницы. — Вроде как воскресенье главное над всеми днями, так и седьмая игуменья над шестью черницами. А устав, устав там строгий. Только что своим трудом живут, все доброхотное даяние бедным раздают. Да и много ли его, даяния-то? Место глухое, от больших дорог далеко. Сосны высоченные, корабельные, между белого камня растут, что вокруг озера огромными глыбами. А вода в озере голубая, чистая, с небом сливается на окоёме. Ну да что я тебе рассказываю, — Надёжа вздохнула. — Сама увидишь.
— Я увижу? — Параша изрядно изумилась.
— Так мать-игуменья тебя с собой берет, уж и батюшке с матушкой твоим отписала. Согласились, еще бы не согласиться, края-то какие там… — Надёжа вздохнула еще горше.
— Не горюй, может, и тебе там побывать суждено, может, даже и жить.
— Одному Богу ведомо, может, в Святую Землю попаду, а может, ни разочка из этих стен не выйду. А с тобой прощаться завтра будем, до Рождества прогостите в скиту, а там небось домой сразу отправишься.
Параше сделалось уже ясным, что княгиня решилась, сама того не ведая, повторить старый фокус Нелли. Также ясным было и то, что красотами Синь-озера, о коих так опечалилась Надёжа, Параше едва ли суждено в скором времени полюбоваться.
А девочка-сирота вправду опечалилась — тем ли, что не едет вместе с княгинею, разлукою ли с Парашей.
Параша огляделась по сторонам: нехорошо, конечно, раздариваться Неллиными вещами, но Нелли бы ее одобрила. Вот то, что нужно. Параша вынула из бюварчика грифель длиною в ладонь, преловко загнанный в позолоченное грушевое дерево.